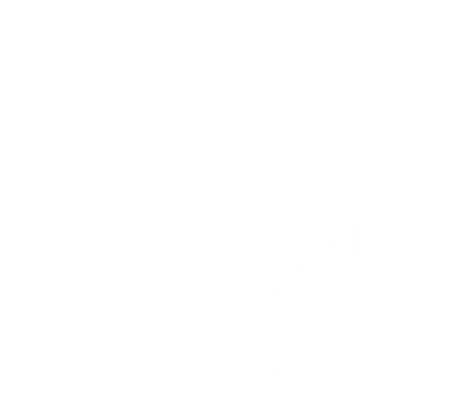Загадки и парадоксы в работе психосоматика
Загадки и парадоксы в работе психосоматика
МАРИЛИЯ АЙЗЕНШТЕЙН
(Перевод Елены Бернацкой)
Слово «загадка» несколько раз появляется под пером Фрейда, в частности в отношении инфантильных сексуальных теорий. В «Трех очерках теории сексуальности» он пишет: «Первая проблема, с которой он (ребенок) сталкивается в истории своего развития, — это не вопрос о различии полов, а загадка происхождения детей. (Фрейд, 1905, стр. 148).
В «Экономической проблеме мазохизма» (1924 г.) Фрейд пишет, что мазохизм «загадочен». В самом деле, если принцип удовольствия управляет психической жизнью и жизнью влечений, то мазохизм остается непонятным феноменом. Фрейд: «С экономической точки зрения существование мазохистской тенденции в жизни влечений человека можно считать загадочным». (Фрейд, 1924, стр. 287) Это первое предложение из этой работы мэтра. Конечно, есть и другие случаи употребления терминов «загадочный» или «энигматичный», но в мои задачи не входит перечислять их здесь.
В Древней Греции люди прививали вкус к загадкам. Всем известна та, которую Сфинкс задал Эдипу, но есть и много других, в том числе: «Два отца и два сына идут вместе, сколько их?» Очевидно трое, из них двое — отцы и двое — сыновья.
Есть еще одна, более сложная загадка, которая меня очаровала: «Представим себе развилку и два пути, один будет верный, а другой приведет к пропасти. Каждая дорога охраняется стражником, они как монозиготные близнецы идентичны, но одновременно и разные, потому что один всегда говорит правду, а его брат постоянно лжет. Как выбрать правильный путь с помощью одного единственного вопроса, заданного одному из них на ваш выбор, но вы не знаете, кто из них лжет, а кто говорит правду?»
Как увлекателен поиск отгадки! «Если бы я спросил совета твоего брата, какая дорога верная, какую дорогу он бы мне указал?» Услышав ответ, вам придется поступить от обратного. Так, если, того не зная, обратиться к лжецу, он солжет и, следовательно, укажет неверный путь. А если так сложится, что стражник неожиданно окажется тем, кто говорит правду, он, зная, что его близнец солжет, вероятно проговорит ложь своего брата. Следовательно, он снова укажет неверный путь.
Одно из старейших значений слова «загадка» в переводе с греческого языка — это «обходной путь», то есть то, что нелегко увидеть. На мой взгляд, это прекрасно характеризует «психосоматический факт». Я хотела бы напомнить здесь статью Пьера Марти «Нарциссические трудности наблюдателя, столкнувшегося с психосоматической проблемой» (Марти, 1952 г.), фундаментальный текст, опубликованный во французском «Revue de psychanalise», затем в 1994 г. в «Revue de psychosomatique» с комментарием Ричарда Готлиба. И, наконец, он был переведен на английский язык в 2010 году в Международном журнале психоанализа с предисловием, который мы написали совместно с Клодом Смаджа.
В этой статье Пьер Марти пишет о пациенте с головной болью: «Точное местонахождение аффективного в соматическом оставалось для нас неизвестным и по-прежнему остается неизвестным в психосоматическом исследовании. Фрейд говорил о скачке (таинственном скачке). Попытки локализации «скачка», который мы наблюдаем, никоим образом не мешает нашим глазам — подчеркиваю именно такую форму восприятия — глазами — увидеть нечто, напоминающее скачок. (стр. 148)
Далее мы можем прочесть: «Три пункта показались мне важными по этому вопросу (клиническое понимание):
а. Мы стремимся к схематизации, к наглядному изображению невидимой и несхематизируемой реальности;
б. Мы имеем тенденцию желать опереться на объект в пространстве, определенный биологическими, психическими, социальными фактами, которые во многом выходят за рамки опоры;
с. Мы имеем тенденцию не принимать существующую в нас энергию саморазрушения. Однако всегда есть клиника, возвращающая нас к реальности и демонстрирующая бесплодие наших блужданий по другим территориям. Психосоматика не через дефис. Это изучение эволюции, сосредоточенное на «длительном периоде, пределы которого неопределимы.» (стр. 163)
Мне кажется, эти слова Пьера Марти подчеркивают, что психосоматический подход остается загадочным, и что он ускользает от любого догматического исследования.
В 2017 году во время коллоквиума в Сен-Мало Клод Смаджа предложил идею «работы соматизации», на мой взгляд, новаторскую и революционную. Это было связано с понятием «соматического решения», которое я уже упоминала в статье 1990 года.
Клод Смаджа – уникальный собеседник для меня. К тому же, во время разговора я подняла два ужасно волнующих меня вопроса, касающихся довольно серьезных соматических дезорганизаций, произошедших вскоре после окончания анализа, который считался «успешным».
Я имею в виду феномен исчезновения длительной, застарелой депрессии, которая, похоже, может уступить место грубой соматической дезорганизации. Мы сможем попытаться понять это только, продолжая размышлять о соматопсихической экономике и обращаясь к клиническим примерам.
Мой второй вопрос касался клинического наблюдения действительно глубоких и устойчивых психических изменений в случае серьезных заболеваний до, после или во время анализа.
В качестве вступления расскажу немного о двух долгих консультациях, одной до и другой после окончания прекрасного 6-летнего анализа.
Пациентку направили ко мне мои близкие друзья, с которыми она дружила, поэтому целью этой встречи было перенаправить ее к коллеге. На тот момент ей было 53 года. Она жила между Парижем, Нью-Йорком и страной в Латинской Америке. Очень образованная, интеллигентная, она не работала, время от времени она писала статьи в художественные журналы и журналы моды, и казалась мне частью «утонченной элиты», не только по причине ее благосостояния. Ее история была особенной. Она родилась на одном из Карибских островов- ее матери было 20, она была индианкой, добытчицей жемчуга, ее отец 32-летний мужчина, международный финансовый магнат, русский еврей, который безумно влюбился в эту молодую женщину, женился на ней и привез ее с собой в Париж.
Несмотря на роскошную жизнь, юная индианка терпеть не могла Европу и вернулась на свой остров с годовалой дочерью. Странная парочка родителей так и не развелась, отец приезжал два раза в год, чтобы провести месяц на острове. Она рассказывала о счастливой и свободной жизни, как маленькой девочкой бегала босиком с тремя маленькими ловцами жемчуга, а во второй половине дня она изучала французский, английский и русский языки с тремя учителями, которых отец ежегодно оплачивал.
В 18 лет она приехала в Европу, провела год в очень шикарной гимназии, чтобы впервые выйти в свет, знаменитые модельеры шили одежду, и ее первый бал состоялся в арендованном по этому случаю венецианском дворце. Она относилась к этому с юмором, но без радости.
Оба родителя умерли совсем молодыми, и Маргарита, изучавшая искусство, продолжила свою жизнь «роскошным кочевником». Она вышла замуж, развелась, родила дочь, которая стала врачом в США.
Она поняла во время нашей встречи, что постоянно бежит от старой и цепкой депрессии, и что ей придется согласиться поселиться в Париже, чтобы начать свой анализ. Она приступила к анализу со всей серьезностью и вовлеченностью, в кадре 4 сеанса в неделю. Каждый год я получала рождественскую открытку, на которой она благодарила меня, говоря, что ей становится все лучше и лучше.
Во время анализа она писала стихи, ее книга получила несколько наград и была переведена на несколько языков.
Мне случилось снова увидеть Маргариту через 7 лет после первой консультации. Ее анализ закончился годом ранее «с согласия обеих сторон и с удовлетворением».
Успех ее книги, конференции, на которые ее приглашали, наполняли ее радостью. Она чувствовала себя «легко, как никогда», но вскоре ей поставили диагноз «тяжелый рак поджелудочной железы». «Операция невозможна, а химиотерапия будет только паллиативной». Она вернулась ко мне, потому что не хотела «утруждать» своего психоаналитика. Мы не работали вместе, «она сдалась», как сказала она мне, не прошло и года как она умерла.
Во время разговора с Клодом Смаджа об этом и других трагических случаях нам пришла в голову идея совместной работы «Апре-ку Сен-Мало».
АПРЕ-КУ САН-МАЛО
Этот захватывающий симпозиум был построен вокруг понятия «работы соматизации», концепции, которая перекликается с понятием «соматического решения». Во время этого же стмпозиума один из наших коллег представил аналитический случай, в ходе которого у пациента развилась сильная соматизация, которая, как ни странно, никогда не называлась пациентом. Поэтому я хотела бы остановиться на деталях этого клинического материала и дискуссии в Сен-Мало.
Мадам Х
Эта пациентка, чье аналитическое лечение, начатое лицом к лицу и продолженное на кушетке, длилось 13 лет. В рассказе об этом лечении мы находим множество знакомых клинических и психосоматических элементов: изнурительное поведение, сон без сновидений, отсутствие ассоциативности, диффузные тревоги, бессилие, не связанное с конфликтами.
Мадам X было 36 лет, когда она решила встретиться с психоаналитиком. Туда ее привели не соматические причины, а постоянное смутное плохое самочувствие, начиная с ее детства. Соматическое заболевание, рак матки, появился на четвертом году аналитического лечения, которое в то время велось на кушетке. Таким образом, мы оказываемся в ситуации вторичного появления соматизации во время анализа.
Реорганизация начнется с латерального переноса.
На первых сеансах после смены кадра, когда мадам Х. легла на кушетку, она рассказала сон с сильным трансферентным смыслом, но в то же время с травматическими следами утраты: «Я возвращаюсь из булочной, и здание, где мы живем с моими родителями, исчезло».
Этот сон, практически вступительный, символизирует в равной степени потерю физического и перцептивного контакта с аналитиком, нарциссическую потерю, связанную с дезинвестированием и, возможно, с активным отказом от инвестиций по отношению к знакомым объектам. Более того, она будет ассоциировать это с классическим для детей страхом, что ее родители погибнут в результате несчастного случая. В текстуре этого сна дом довольно четко символизирует ее нарциссическую оболочку. Спустя годы и ближе к концу анализа ей снятся несколько снов о доме, где она довольна украшениями и счастлива быть дома. Дом выступает как символ психической операции по трансформации, в которой отсутствует тревога утраты или разрушения.
Прежде чем обсуждать психические процессы, которые могли участвовать в развитии соматизации, а также те процессы, которые способствовали психосоматической реорганизации пациентки, необходимо сказать о трех наблюдениях, которые возникают при изучении клинического описания.
А. Первое относится к структуре лечения. После нескольких месяцев аналитической работы лицом к лицу аналитик предлагает своей пациентке продолжить лечение на кушетке.
Б. Второе наблюдение относится к соматизации. Примечательно то, что соматизация окутана полным молчанием как до, так и во время и после ее появления в терапии. Такая изоляция основного соматического события в поле анализа встречается редко и заслуживает того, чтобы подвергнуть это сомнению.
- Третье наблюдение касается общей эволюции качества психического функционирования пациента в связи с появлением соматизации.
Похоже мы действительно можем довольно четко различить две фазы «работы соматизации»: первую фазу, предшествующую соматизации, отмеченную печатью травматического, и вторую, отмеченную печатью как психической, так и соматической реорганизации.
Первый период аналитического лечения длится от трех до четырех лет и завершается бессимптомным появлением рака матки. Первые месяцы лечения проходят лицом к лицу, и аналитик описывает пациентку в ее оператуарном функционировании, чья система репрезентаций оказывается бедной, что вызывает у нее трудности в мышлении и ассоциации. Эволюция репрезентативного процесса в сторону большей открытости и большей плотности заставляет задуматься аналитика о переходе от кресла к кушетке. Аналитик указывает: «… смущение в прямом контакте лицом к лицу, которое мне казалось, я ощущал в ней… Это смущение перешло в сгущение дискурса, которое я начал ощущать во время определенных сеансов, несомненно это было показателем контрпереноса — начала оттепели влечений». Именно это заставило аналитика задуматься о возможности перехода на кушетку.
Здесь необходимо подвергнуть сомнению функциональную ценность репрезентаций и качество ассоциативности у пациента. Понятие функциональной ценности репрезентаций было предложено психосоматиками в начале 1960-х годов.
В 1970-х годах это привело к появлению понятия ментализации, ныне хорошо известное психосоматикам. В «Психосоматическом исследовании» авторы подчеркивают важность этого аспекта исследования и лечения соматических пациентов: «Мы лучше поймем важность этого аспекта исследования, если выявим ту тесную связь, которая существует между модальностями репрезентативной деятельности в психосоматике и самой сути их симптоматики» (Марти, Де М’Узан, Дэвид (1963, 2015)
Для основателей Парижской школы именно в изменении жизни репрезентаций лежит начало процессов, которые в итоге приведут к соматическому решению.
«Для пояснения того, что мы понимаем здесь под функциональным значением репрезентативной деятельности (пишут авторы «Исследования психосоматики»), нам представляется полезным предложить схему, описывающую путь прохождения энергии. Как правило энергия, по-видимому, инвестируется, с одной стороны, в умственную деятельность на ее различных уровнях, она удваивается и сопровождает эффективное отношение с объектом, а с другой стороны, в умственную деятельность, имеющую своей специфической целью «изменение давления влечений». То, что позже будет описано Пьером Марти, касается способности репрезентаций постоянно интегрировать давление влечения, возникающее в психике с точки зрения двух характеристик- количественной и качественной.
Вернемся от этого уточнения к клинике:
С первых месяцев лечения лицом к лицу аналитик заметил открытость ассоциативной системы своей пациентки. Рассказанные во время сеанса пациенткой примеры большей частью касаются репрезентаций, имеющих в основном сенсорную тональность.
Для Марти этот способ репрезентации с доминирующей сенсорной валентностью не очень подходит для ассоциаций идей из-за того, что он укоренен в перцептивном опыте и поведении. Эти замечания заставляют меня усомниться в функциональной ценности ассоциативной открытости, наблюдаемой в этот момент терапии.
В частности, можно задаться вопросом, опираются ли внутренние объекты, составляющие репрезентации в этот момент, на влечения; в достаточной ли мере они способны выдерживать исчезновение лица аналитика и регрессию, связанную с положением на кушетке.
Первый период перед началом рака отмечен печатью травмы. Интересно отметить, что очень скоро после смены кадра и продолжения работы на кушетке последуют несколько моментов деперсонализации. Воспоминания о травматических сценах соблазнения всплывают в сознании пациентки и попадают в поле анализа. Прикосновения, приносившие страдания в детстве, и описание ощущений, испытываемых как правило во время хирургических вмешательств, направляют наши ассоциации в сторону переживаний, затрагивающих ее тело и реактивирующих ужасы как соблазнения, так и проникновения. Ощущения на кушетке и перенос на аналитика в реальности очень быстро спровоцировали повторение опыта травматического соблазнения.
Аналитик идентифицируется как с насильником из ее детства, так и с хирургами, вскрывающими ее и проникающими в ее тело. Состояние пассивности и неподвижности, навязанное кушеткой, завершает этот разыгрывающийся актуализированный сценарий соблазнения ребенка взрослым.
Смена кадра и новая обстановка кресло-кушетка используются бессознательной частью психики пациентки как для повторения травматического опыта соблазнения, так и для защиты от раскрытия ее собственных желаний путем бесконечного повторения одной и той же травматической сцены.
Как понять парадоксальное возникновение рака в момент психического прогресса?
Психосоматика пронизана парадоксами. За парадоксальным характером скрывается более простая истина. Пациентка была организована с определенными дефектными зонами, но эта организация удерживала ее в достаточном равновесии с ее окружением. Начало аналитической работы нарушает этот баланс. Сила этого потрясения зависит от качества основ, на которых держится индивидуальная психосоматическая организация пациента. Этим можно объяснить парадоксальные движения психической дезорганизации, происходящие во время плодотворного аналитического процесса.
Но можно предположить, что в обычной психической организации Мадам X существовал набор негативных психических механизмов, составляющих ее психосоматическое равновесие. Соматическое решение, представленное появлением рака матки после 4 лет аналитической работы, вероятно, временно превращается в процесс скрытой дезорганизации, вышедший из-под контроля других психических механизмов.
Второй период аналитического лечения отмечен двумя событиями, из которых трудно установить, что стало определяющим в этом новом повороте ее жизни.
Первое событие – рак. Он, можно сказать, шумно-тихий. В аналитическом поле это выглядит скорее, как не событие.
Второе событие, вскоре после: болезнь, а затем и смерть ее матери, шумно проявится в поле анализа и положит начало ряду трансформаций как в отношениях с внутренними объектами пациентки, так и в отношениях с объектами ее внешнего мира. Именно на этой второй стадии реорганизации мы можем оценить аналитические качества аналитика, его способность поддерживать в своей пациентке движение эротического реинвестирования Я, что является необходимым условием для процессов психической трансформации и эволюции психического функционирования.
Именно это аналитическое качество по отношению к пациентке позволяет развиться в ней новым нарциссическим инвестициям.
И это то, что мало-помалу проявляется в Мадам X после завершения периода, отмеченного событиями, нарушившими ее психическую экономию. Этот процесс реорганизации, составляющий, согласно модели работы соматизации, вторую фазу, называемую выздоровлением, требует опоры на объекты вне аналитического поля.
Вскоре после эдиповой интерпретации развивается отыгрывание — интенсивная и брутальная сексуальная страсть, которую я воспринимаю в контексте ряда событий, включающих рак и тяжелую утрату. Все эти события также перекликаются с нестабильным течением отношений с ее аналитиком.
Эти новые отношения, как аффективные, так и сексуальные, принимают форму латерального инвестирования, возникающего вне аналитического поля и переноса. В течение следующих месяцев пациентка осознает нарциссический характер этих отношений и проекцию на эти отношения трансферентных инвестиций по отношению к своему аналитику. Именно во время перерыва между сеансами она познакомилась с этим мужчиной. Похоже, что спешность этого латерального, нарциссического инвестирования была определена смертью матери и утратой объекта в ее психической экономии.
Мы можем предположить, что утрата объекта, частично переживаемая в переносе, была заменена идентификацией с утраченным объектом. Эта нарциссическая регрессия позволяет также Мадам X приблизиться к репрезентации матери, через связь c женскими фигурами. В течение нескольких месяцев она будет подвергать сомнению свое приключение, связывая счастливые и нежные воспоминания с двумя женщинами, которые были важны для нее в детстве, и чья мягкость и доброта контрастировали с суровостью матери.
Для Мадам X реальное изменение качества ее психического функционирования происходит, когда рассеивается аспект страсти ее романтических отношений. Это изменение связано с уплотнением нарциссической ткани, поддерживаемой постоянным вкладом ее аналитика и выражающимся у Мадам X в новом удовольствии от жизни и, прежде всего, в новых сублимациях, так как пациентка начинает рисовать. Она находит удовольствие в общении с собой и просто в жизни.
Ассоциации подтверждают появления нового измерения психической работы, целью которой, по-видимому, является развитие тревоги кастрации или потеря объекта. «Это похоже на ремонт старой часовни. Под старой штукатуркой, которая отпадает кусками, мы обнаруживаем старые фрески», — говорит пациентка.
Параллельно с этой эволюцией пациентка сообщает о моментах тревоги и ухода в себя. Это чередование периодов, когда ее психическое функционирование стабилизируется, и периодов, когда она, кажется, распадается, характеризует то, что Марти назвал «нерегулярностью психического функционирования».
В заключение дискуссии в Сен-Мало Клод Смаджа говорит о «трансформации ригидного и ограничивающего оператуарного функционирования в функционирование на уровне невроза характера или, возможно, пограничного состояния».
Лично я склоняюсь в сторону пограничного состояния.
Так или иначе, эта эволюция идет в направлении обогащения психического функционирования.
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ
Латеральный перенос, безусловно, свидетельствовал о моменте болезненного переполнения психики, но он также представлял собой попытку проработать конфликтное ядро, имел защитную функцию, обеспечивая непрерывность терапии.
Мог ли рак сыграть ту же роль? Можем ли мы представить себе возникновение ракового процесса как реорганизационную остановку на уровне сомы, смотрящей в бездну эссенциальной депрессии? Иными словами, свидетельствует ли возникновение рака о «работе соматизации»?
Гипотеза: рак с последующим внезапным появлением страстного отыгрывания может ли пониматься как модальность возвращения нерепрезентируемой ранней персональной предыстории субъекта вне времени и вне памяти, о которых Фрейд говорит в «Конструкции в анализе». Травматический потенциал этой «амнестической памяти» описывается Андре Грином в работе «Le Temps Éclaté», главы V и IX. Я вспоминаю этот очень важный отрывок о «процессах амнестических воспоминаний, находящихся за пределами сознательных и бессознательных полей памяти» (Green 2000, стр. 106), усиливающихся эхом на более поздних травматических следах, актуализирован в переносе сначала в форме эссенциальной депрессии, а затем в форме той отличительной депрессии, «белой скорби», которая, по Грину, лежит в основе пограничного функционирования.
Это изменение качества существующей депрессии будет свидетельствовать о трансформации психического функционирования пациента благодаря аналитической работе.
Перед заключением я затрону последний вопрос: как услышать начало рака в момент психического прогресса?
Гипотеза: в начале анализа единственным выходом для пациентки противостоять насильственному напору влечений, вызванному аналитической встречей, было применение ее обычных нарциссических защит.
Парадокс между наблюдаемым психическим прогрессом и возникновением процесса соматизации заключается в разрыве между очень ранней репрессией (подавлением) и зарождающимися репрезентативными качествами, функциональность которых оказывается недостаточной для проработки резко высвободившихся влечений.
Один из многочисленных вопросов, возникающих в отношении Мадам X и заслуживающих размышлений, состоит в следующем: можно ли интерпретировать эссенциальную депрессию и соматизацию как формы возвращения главных событий инфантильной предыстории (депрессии ребенка) пациентки, которая была следствием их нерепрезентативности (невозможности создания репрезентации)? Можем ли мы говорить о соматизации как о возвращении нерепрезентируемого? Немного похоже на то, что Жан-Клод Роллан говорит о психической боли, которая в анализе была бы возвращением немыслимой боли до языка (Ролланд, 2006, Ролланд, 2020)
Является ли это «амнестической памятью», как описал это Андре Грин?
Я выбрала этот обходный путь через клинические материалы, представленные на симпозиуме, ценность которого состоит в том, что он позволяет нам свободно обмениваться мнениями, чтобы еще раз проиллюстрировать сложность психосоматического подхода.
Сложность, которая заставляет нас работать с различными смыслами и загадками на протяжении многочисленных обходных путей.
ДРУГАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ
Клиника пограничных случаев пациентов, страдающих от болезненных, инвалидизирующих, смертельных соматических заболеваний, привела меня к выдвижению гипотезы о несостоятельности мазохизма, экзистенциального аспекта психики и, в частности неудачи мазохизма как стражи жизни. Это результат дефицитарности первичного эрогенного мазохизма. Эта первичная нехватка вызвала у этих субъектов «тенденцию» к развязыванию влечений, что само по себе является фактором потенциальной соматической дезорганизации.
Я вспоминаю пациента, за которым я наблюдала последние десять лет его жизни. Он родился в еврейской семье сразу после окончания Второй мировой войны. Отца из немецкоязычной Швейцарии пощадили. Мать-француженка была арестована при попытке пересечь границу и депортирована в 1943 году. Мой пациент родился в 1948 году, он был первым ребенком этой пары, познакомившейся незадолго до войны.
В детстве он сильно страдал от отторжения со стороны матери, которая постоянно его наказывала, в то время как она была нежной матерью своим дочерям. Она неустанно повторяла ему, что он будет неудачником.
Отец, с которым у него были хорошие отношения, в 12 лет отправил его в интернат. У него смешанные воспоминания об этом месте. Одаренный отличник, он стал всемирно известным архитектором, который занимался строительством по всему миру.
Он пришел ко мне в 50 лет на пике своей карьеры и сказал, что часто болеет. Он выигрывал все конкурсы, и каждый успех приводил к новой серьезной болезни или соматическим повреждениям.
Я довольно быстро сказала ему: «В общем, Вы не можете убить своего противника». Его ответ был: «Я понимаю, но все же мои болезни — это моя мать». Бессознательная вина и эдипальная конфигурация казались очевидными, но я заметила его чрезмерную активность, и он признал это.
«Я знаю, что не могу удержаться на месте», — сказал он мне. Он был очень творческим человеком и это не представляло собой оператуарной активности. Сеансы с ним доставляли истинное удовольствие, он свободно общался, его мысли были богаты эмоциями и метафоричны.
Тем не менее его соматическая хрупкость сохранялась, его соматизация была «взрывной»: два сердечных приступа, разрыв желудка, грыжа межпозвоночного диска, язвенный колит.
Аналитическая работа с этим пациентом была увлекательной, но последний рак унес его через 8 месяцев в возрасте 60 лет.
Клиницист не может не задаваться вопросами.
Этот человек умер, сохранив умственное функционирование редкого качества, как если бы переход в процессе «дементализации» имел короткое замыкание.
Не можем ли мы здесь думать о «тенденции или склонности» к развязыванию влечений, заложенном в первичных отношениях с матерью, только что вышедшей из лагеря смерти?
Все говорило о том, что она все еще находилась в травматическом состоянии.
Я могу представить эту очень молодую женщину, испытывающую сложности со своим новорожденным мальчиком.
Вполне вероятно, что стадия первичного эрогенного мазохизма, когда мать позволяет ребенку интегрировать способность ждать, мазохически инвестировать это ожидание, чтобы получить доступ к галлюцинациям желания, была трудной.
Эта мать знала, как быть нежной со своими двумя дочерями, но никогда не могла инвестировать в своего сына, который сказал мне, что его «спас» интернат.
Я выдвинула гипотезу о детской депрессии, подавленной во взрослом возрасте сублимациями, гиперактивностью и творчеством. Он одновременно вел 3 крупных проекта, один в Дубае, другой в Париже и третий в Токио.
Но его «победы» на конкурсах, где он побеждал своих конкурентов, должны были столкнуть его с психическим возбуждением, превышающим его способность к проработке.
Внезапное и резкое развязывание влечений открыло путь к соматизации, которая, по моему мнению, явилась для этого человека «решением психического порядка», но оказалась бессильной запустить «работу соматизации».
Не связано ли это бессилие с психической организацией пациента, о которой я писала выше, которая, как мне показалось, отмечена несостоятельностью мазохизма, блюстителя жизни?
Или это относится к типу внезапной и острой соматизации, которая не позволяет мазохистское реинвестирование тела посредством долгих и болезненных процедур. Или же необходимо учитывать сочетание этих двух элементов. Это может свидетельствовать о «выборе» соматизации исходя из типа ментализации, «необычной» идее среди нас, психосоматиков Парижской школы, для которых, как сказал Мишель де М’Юзан, «симптом глуп». Так он бросил вызов психосоматическим теориям Александера, среди прочих, чей дуалистический подход связывал психоаналитическую точку зрения с конкретным физиопатологическим расстройством.
Это вновь открыло бы дискуссию о символизации: имеет ли соматический симптом первоначальное значение, отличное от того, которое мы можем приписать ему апре-ку, после аналитической работы?
Как бы то ни было, клинические материалы этого пациента до сих пор остаются для меня загадочными, как и упомянутая выше история Мадам Х.
В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Я закончила бы аналогией или метафорой, для Аристотеля мышление по аналогии предшествует и обосновывает метафорическое мышление. Аналогию можно увидеть в колебаниях «состояние здоровья = тишина и болезнь = шумное тело» на модели естественных колебаний психики между полюсом депрессии и полюсом мании. Болезнь — одна из судеб либидо, как предполагал Фрейд.
Действительно, в «По ту сторону принципа удовольствия» Фрейд уже задавался вопросом об исчезновении психической патологии и даже бреда при появлении соматического заболевания. Он добавил, что речь должна идти о распределении либидо. Пьер Марти описал «балансирование» между психотическими и соматическими состояниями. Сегодня с концепциями «соматического решения» и «работы соматизации» стало возможным пойти еще дальше в исследовании этой проблемы.
«Психосоматика не через дефис. Это изучение эволюции, сосредоточенное на «длительном периоде», пределы которого неопределимы.» (стр. 163), — писал Марти в 1952 году.