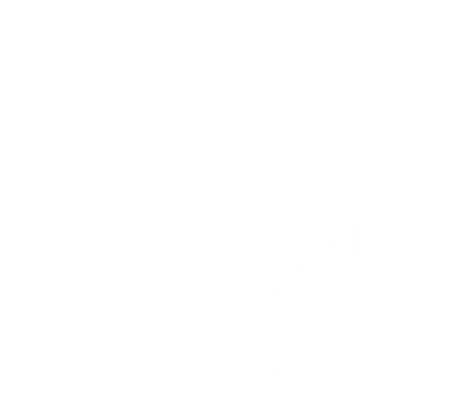КАТРИН ПАРА «Эссе о счастье»
Эссе о счастье*
* Эта статья была впервые опубликована в Revue française de psychanalyse, т. XXXVIII, июль-август 1974 года, Париж, PUF.
С точки зрения психоаналитиков, знание представляет собой процесс, состоящий из двух частей: нужно идентифицировать себя и наблюдать, чувствовать и понимать. Для того чтобы проникнуть в суть понятия «счастье», нужно рассматривать его спокойным, но не холодным, не отстранённым взглядом, не тогда, когда ослеплён его светом и не в состоянии скорби по поводу его утраты. Нужно время для того, чтобы чувствовать, и время для того, чтобы познать. Впрочем, не стоит не придавать значения тому, что каждый из нас может вписать в реальность лишь определённое количество «возможного», ведь никогда нельзя поехать или проехать на всех поездах сразу; но то, на что наша функция призывает нас быть способными, это признание переживаний другого человека, действительно ли они имели место или только в мире фантазии.
Для того чтобы очертить границы интересующего нас предметы, мы должны, параллельно с каждодневным опытом и с рефлексией приоткрыть дверь в глубины своего существа через ревери и ночные сновидения, для некоторого количества форм и фантомов, которые, будучи облечёнными в цвета нашего индивидуального фольклора, кот дают нам незаменимые сведения на крупные человеческие темы, которые нам нужно затем изучить в самом критическом духе.
При этом условии мы сможем опровергнуть утверждение Жана Кокто: «Когда смотришь на фей, они исчезают», поскольку счастье, как те феи, если оно и является иллюзией в плане реальности, является реальностью в плане воображаемого.
Счастье – какое волнующее слово, какое неоднозначное слово, источник недоразумений, ловушка, ложный сюжет, табуированный сюжет.
Счастье как феноменологический термин не обозначает какого-либо психоаналитического сюжета, однако он снова и снова появляется под пером, на слуху и из уст психоаналитиков, которые не могут исключить его из своих размышлений.
Фройд, который говорит о нём в пессимистическом ключе, определяет его как «реализацию детского желания». Плодотворное определение, но нам оно представляется недостаточным. Детские корни обнаруживаются легко, но тот путь, который возвращает нас в детство, не является специфическим, ведь то же самое происходит и при художественном творчестве, при сновидении, при научном поиске. Всякое движение в ментальной жизни предполагает непрерывность во времени, а также использование и интеграцию защитных механизмов, напряжённости и конфликтов, которые родом из детства. И только операциональные аспекты человеческой жизни позволяют нам избежать для их понимания (и зачастую здесь это не более чем видимость) необходимости следовать по ретроградному пути. Термин «детское желание» обозначает нечто большее, чем след, и позволяет предположить, что речь идёт о синтезе определённого количества движений в рамках влечений. И если речь идёт действительно о детском желании, то необходимо к тому же, чтобы это желание могло бы поддерживаться без очень значимых изменений в процессе развития. Мы попытаемся уточнить его содержание, но с самого начала мы выдвигаем гипотезу о его сохранении на параллельных путях, отколовшихся от основного вектора развития, который интегрирует реальность на всех уровнях, на тех параллельных путях, которые принимают участие в поддержании равновесия, распоряжаясь возможностями удовлетворения в иллюзорном режиме.
Большинство сходится во мнении о переходном характере и иллюзорной основе счастья, но, в то время как для одних оно представляет собой возможный и желательный путь, для других это жалкая, бессмысленная или возмутительная претензия. В самом деле, речь идёт о теме, трудно поддающейся объективному рассмотрению, поскольку она предполагает, по крайней мере на первых порах, выражение моральных, этических позиций, в которые включены Супер-эго и Идеал Я, и потому кажутся вполне обоснованными рассуждения о счастье потребностей и отсутствия потребностей, способности и неспособности, а то и призвания… ведь из-за превратностей индивидуального развития детские желания имеют очень различные судьбы.
Упоминание о счастье нередко влечёт за собой прямую отсылку к детству, и величайшая банальность состоит в том, чтобы представлять себе ребёнка в утробе матери как воплощение счастья по мнению абсолютного большинства людей. С ним можно сравнить вид влюблённого мужчины, засыпающего на груди своей возлюбленной, и к этому мы ещё вернёмся.
За словами о том, что дети сами не ведают своего счастья, стоит ностальгия по инфантильной ситуации, когда человек чувствовал себя защищённым, зависимым и не имел понятия о некоторых аспектах реальности, а также предположение о том, что счастье – очень хрупкая вещь, так что, имея полное представление о жизни, удержать его сложно или невозможно.
Счастье в детском возрасте (на котором мы не станем сейчас останавливаться) содержит в себе объектные измерения и характеристики étayage (опоры), однако его едва ли можно сравнить со счастьем взрослого человека, и «постепенная» реализация (порядка продвижения вперёд, завоевания мира и автономии) занимает в нём важное место; счастливый ребёнок смотрит в будущее с верой в то, что его мечта поглотит собою реальность. Для взрослого это уже невозможно, но взамен он приобрёл способность добиваться согласованности между своим порывом в будущее и своими желаниями из прошлого.
Однако вполне возможно, что возможность счастья и то, что можно было бы назвать призванием к счастью, связаны с некоторыми моментами из раннего опыта, способствующими созданию фиксации, которая выступает одновременно как точка напоминания и как базовый ритм, а за него цепляются вторичные ритмы. И если счастье ребёнка не очень напоминает счастье взрослого человека, всё же маловероятно, что ребёнок, который долго был несчастен, а главное, был несчастен в раннем возрасте, станет счастливым взрослым.
Как же определить счастье? Это аффект, аффективное состояние той или иной продолжительности, которое несёт в себе спонтанную внутреннюю организацию. В таком виде (аффекта) оно (счастье) может привлечь внимание психоаналитика. А. Грин неоднократно подчёркивал значимость аффекта на уровне психической реальности. Впрочем, определение аффекта счастья не умещается в такой простой формулировке. В самом деле, он может принимать острую форму, быть преходящим или более длительным, но, главное, дело в том, что его связи с ментализацией сильно варьируются. Если в некоторых крайних формах его развитие может не сопровождаться никакой репрезентацией, то оно может также и представлять собой амальгаму эмоционального опыта с самыми насыщенными репрезентациями и создавать таким образом живой пучок, в котором соединяются друг с другом состояния и модификации собственного тела, репрезентации, воспоминания, язык и проект, и всё это – в одной точке движущегося перехода. Невозможно найти выражение более меткое, чем то, которое сформулировал К. Давид, говоря об аффекте в целом: «аффект смешанный, неразделимый, а то и немыслимый по количеству и качеству, способ психического выражения влечений».
Следовательно, мы можем вести речь о пережитых моментах или мгновениях, главным образом с точки зрения чувствительности с очень малой долей сознания (или о живом бессознательном участии), но ментализация помогает обогатить и окультурить их. Выражение «состояние души» хорошо подходит для описания счастья; слово «душа» (жалко было бы отказываться от использования этого термина в строго монистической концепции) обозначает идеализированный аспект, самую деликатную сторону восприятия, переживания нашего опыта. Эта сторона относится одновременно как к сфере сознательного, так и к сфере бессознательного, и к самым живым глубинам воспоминаний и бессознательных желаний.
Счастье, состояние души, в которое включается сознательное или иллюзия о чём-либо, неоднозначно. В нём можно увидеть разные и даже противоречивые аспекты, при рассмотрении которых мы постараемся понять, какие сходства могут скрываться за этими различиями.
ФОРМЫ
Для того чтобы немного упорядочить наше исследование счастья, рассмотрим два варианта этого явления (которые, как мы увидим далее, связаны между собой), на первый взгляд различающиеся продолжительностью и явным содержанием.
С одной стороны, есть моменты счастья, ограниченные во времени, наступление которых, будучи более или менее резким и на более или менее длительный срок, происходит на обычном фоне повседневной жизни. Фрейд, который, пожалуй, говорил главным образом об этой форме, подчёркивал внезапность получаемого удовлетворения: «То, что мы называем счастьем, в самом узком смысле слова, является следствием удовлетворения, скорее внезапного, потребностей, достигших высокого уровня напряжённости, и по природе своей возможно лишь в виде эпизодического феномена».
С другой стороны, существуют периоды счастья, которые могут простираться на более или менее длительные этапы жизни; нередко они подвержены колебаниям, достигают апогея, приостанавливаются, а порой образуются периоды, в которые на место счастья приходит его противоположность, несчастье.
Моменты счастья, как правило, предполагают наступление особого аффективного состояния в связи с восприятием отдельных элементов окружающего пространства, с эстетическим переживанием, с опытом отношений (изменчивым в частных своих аспектах). Такое аффективное состояние характеризуется прежде всего чувством завершённости, которое помогает сгладить значимость отдельных элементов окружающей действительности. Радость, свобода, внутреннее освобождение, а то и ликование или восторг способствуют тому, что второстепенные случайности реальной жизни как будто стираются, исчезают или уж, во всяком случае, их важность ощутимо снижается. Ход времени, подчинение срокам утрачивают значимость. И хотя чувство реальности остаётся неизменным (такие моменты не обладают бредовой структурой), их инвестирование сильно уменьшается и как будто становится более редким за счёт чего-то другого. Это «другое» состоит в сверх-инвестировании актуального опыта и в очень богатой ассоциативной коммуникации между тем, что чувствуется, и воспоминаниями, фантазиями, выход которых в сознательное может быть очень живым, но которые в других случаях могут даже поверхностно не затронуть предсознательное.
Таким образом, совпадение воспринимаемой реальности с фантазией или с наличием внутреннего объекта может происходить на самых различных уровнях сознания, но, в любом случае, похоже, именно оно служит источником этого чувства завершённости. Мы можем предположить, что такие моменты соответствуют периодам разрядки одного или нескольких инстинктивных напряжений (нарастание которых без ведома субъекта могло происходить в очень изменчивом ритме…); такие разрядки очень похожи или тождественны разрядкам, которые происходят посредством сублимации.
Эти моменты зачастую сопровождаются чувством, что они временны, преходящи, отличаются хрупкостью, которая только делает их ещё более ценными, значимыми, редкими. Порой они сопровождаются более или менее осознанным чувством трансгрессии, которое, в зависимости от подспудных невротических организаций, может способствовать увеличению удовлетворённости или вести к сокращению её продолжительности.
В качестве иллюстрации своих умозаключений приведём несколько примеров. На первый взгляд они могут показаться разнородными, однако содержат в себе и выражают тенденции, аналогичные или сходные с теми, о которых идёт речь в нашем исследовании. Один пациент в первый период своего анализа, при установлении положительного трансфера, с сияющим видом сказал мне:
«Бывают же счастливые случайности. Совершенно случайно я наткнулся на одну работу, в которой обнаружил вашу фамилию, ваше имя, ваш предполагаемый возраст и т. п. Несколько часов я ходил счастливый. Я ничего не знал о вас, и вдруг всё, что я только мог предполагать, подтвердилось… Забавно, что такая мелочь может осчастливить. Но вы для меня не мелочь, я имею в виду подробности, а не вас. Есть во всём этом восхитительная составляющая».
Ассоциации касаются вуйаеристских желаний из детства и оставшихся без ответов вопросов о родителях. Таким образом, мы отмечаем у него вызванное восприятием внезапное, неожиданное совпадение актуального опыта отношений (в трансфере) с детскими воспоминаниями и желаниями.
Вероятно, некоторое одиночество, контакт с природой являются благоприятствующими и даже желательными факторами формирования таких аффективных состояний.
«Когда на ложе мха я грезил и мечтал,
Наилучший изумруд – сверкающий жучок,
Блистающий алмаз – росистый лепесток.
Свист птиц, пух облаков, цвета живого дня…
То, что всегда внутри, заботам не отнять».
«Весной в Типаса обитают боги, и боги говорят на языке солнца и запаха полыни… Здесь мне нет дела до порядка и меры. Меня всецело захватывает необузданное своеволие природы и распутство моря… Одурманенный дикими запахами и дремотным жужжанием насекомых, я приемлю взором и сердцем невыносимое величие знойного неба… Я начинал дышать глубоко и ровно, я обретал душевную цельность и полноту».
В зале музея человек неподвижно стоит перед картиной и пристально, с улыбкой и с восхищением на лице рассматривает её. Время от времени он закрывает глаза и расплывается в ещё более широкой улыбке. Когда взгляд его снова обращается на полотно, он начинает глубже дышать… Четверть часа спустя, он всё ещё здесь, как будто по-прежнему стоит на волшебном острове из сновидения.
Такая улыбка, такой отстранённый взгляд были у девушки в одном из музеев Рима, которая, будучи почти без сил, сумела собраться у подножия мраморной статуи мужчины, ноги которой она только что самозабвенно гладила рукой, к большому возмущению других посетителей…
Особый случай представляет собой специфическое инвестирование «знаменитых мест». Они дают повод к внезапному, как мы уже отмечали, ассоциированию эстетического восприятия, культурных реминисценций с чрезвычайно индивидуальными фантазматическими узорами; нередко такая ассоциация порождает чувство участия в чём-то более крупном, чем сам субъект.
«В день отъезда, уходя из сада, я сорвала розу… она добавила в мою комнату немного дерзкую нотку алого цвета и свежести, которая ощущалась при входе с раскалённой зноем улицы… На следующее утро роза начала увядать и я забрала её с собой, чтобы не обрекать на столь недостойную её кончину. На развалинах большого храма в честь Аполлона, на том месте, где раньше стояла Пифия, я вдруг подумала о своей розе и стала перебирать её красные лепестки под палящим полуденным солнцем, под которым они высыхали, а их яркий цвет тускнел, приобретая землистый оттенок. Я пребывала в состоянии немого восторга, огромной радости, я испытывала чувство достигнутого совершенства, ощущая, что во всей этой вечной вселенной не найти лучшего места для того, чтобы оставить умирать мою розу, и таким образом мой жест связал воедино разрозненные моменты моей жизни. Незабываемые минуты».
«В ту ночь во Флоренции, в июле 1934 года, гуляя вокруг Палаццо Веккьо, проходя в сторону моста над Арно, петляя по улочкам между дворцами, тихонько дремавшими под полной луной, возвращаясь снова к дворцу, обращаясь с вопросами к нему одному, при том, что я в тот вечер не пил, продолжая свой путь и время от времени останавливаясь, я в последний раз испытал довольно странное чувство, то самое, которое пришло ко мне четырьмя годами ранее в Пражском малом граде, возле домов капитанов, и которое мне доводилось испытывать с тех пор ещё три или четыре раза в местах, несколько менее великолепных. Крупные города всегда волновали меня больше, чем природа…
Как это началось? В самом деле, три недели, к тому времени проведённые в Италии, сделали меня немного непохожим на самого себя: красота издаёт призывный клич, и если поначалу мы недостаточно хорошо слышим его, то он, по крайней мере, провоцирует и усугубляет надрыв, чрезвычайно благоприятный для появления чего-то нового. Двумя днями ранее в Вероне у меня уже случилось небольшое озарение у подножия башни Муницип!.. Я шёл по улице в сильном возбуждении и не столько обращал внимание на формы, сколько пытался проникнуть сквозь них к тому событию, наступление которого я предчувствовал, и которое казалось мне связанным с тайной этого фасада…
Двойственное возбуждение, состоящее из гордости и тревоги… Пожалуй, я не очень-то старался проанализировать его, а вместо этого, обращая внимание то на Башню, то на силу, постепенно лишавшую меня моей собственной сущности и сгущавшуюся во мне на её месте (не знаю, во что она должна была превратиться, но, несомненно, ей было суждено привнести что-то, неподвластное мне), я ждал с боязливым нетерпением, которое осложнялось желанием подольше задержаться здесь и отсрочить слабость, которая охватывала меня. И вот событие уже произошло, оно продолжается… Трудно сказать, в какой момент я ощутил такую подавленность, что мог быть лишь базой или элементом движения, которое раскачивало меня от ужасной боли к невыразимой радости и обратно.
Ощущение поражения в самой глубине отчаяния сменилось чувством свободы и господства, удовлетворённого тщеславия… Да, тщеславие смешивалось с радостью, и было в этом осознание владения, горькое торжество. Потоки радости заливали меня, будто кровь, накрывавшая с головой. Моя кровь, и не только моя. Радость телесная, объёмная: поэтому я не могу говорить о восторге, чего не бывает без полного отказа от самого себя, такое очищение, что ты сам в человеческом теле больше уже не существуешь. Но я всё ещё немного существовал!»
Достопримечательности, будучи культурными объектами и объектами фантазий, особенно хорошо подходят для развития или для прерывания таких состояний. У каждой цивилизации они свои: Мекка, Ганг, Иерусалимская стена, мыс Горн, Венеция, Акрополь, Рим и т. п.
Фрейд оставил нам любопытный набросок, который иллюстрирует ход его рассуждений, связанных с Римом. Рим, культурный феномен, основа для проекций, объект фантазий, символическое место.
«Моя ностальгия по Риму носит глубоко невротический характер. Она связана с любовью к семитскому герою Ганнибалу, которую я питал, будучи школьником».
«Впрочем, я не в состоянии заниматься чем-либо другим, кроме изучения топографии Рима, ностальгия по которому становится всё более острой…».
«Когда можно будет поехать в Рим на Пасху? Мне и самому хотелось бы это знать».
«До Рима ещё далеко».
«Но мы пока не в Риме».
«Как тебе идея провести в Риме десять дней на Пасху (конечно, нам вдвоём), если всё будет хорошо? Говорить о вечных законах в Вечном городе – думаю, это было бы неплохо».
«В сущности, сейчас я дальше от Рима, чем когда бы то ни было за всё время нашего знакомства».
«Если бы я мог встретить тебя в Риме».
«Если в заключение я скажу: “На ближайшую Пасху едем в Рим”, то буду казаться сам себе набожным евреем». «На фоне материальной и моральной подавленности, в которой пребываю я сейчас, меня не отпускает желание провести в этом году пасхальную неделю в Риме».
Когда его желание было наконец удовлетворено, он подчёркивает, что он испытал не столько счастье, которого можно было бы ожидать, сколько своего рода ощущение разрыва между желанием и его исполнением, обусловленного продолжительным ожиданием (огромной дистанцией между зарождением желания и смещённой его реализацией…). «Все достижения такого рода неизменно слегка разочаровывают, если их приходится слишком долго ждать», – говорит он.
Но нам следует иметь в виду, что эти слова адресованы Флиссу, и что у него, вероятно, были основания к тому, чтобы минимизировать позитивный аспект этой встречи. (Здесь мы можем предположить, что он подавляет желание отдаться счастью от того, что он наконец-то в Риме). Впрочем, он добавляет:
«Тем не менее, это была кульминационная точка моего существования».
И ещё, некоторое время спустя:
«Вернувшись из Рима, я почувствовал, что во мне возрождается вкус к жизни, желание действовать, а жажда мученичества исчезает… К тому же мне хотелось вновь увидеть Рим…»
Нам известно, что именно в этот момент он делает всё необходимое, чтобы побыстрее получить должность профессора (между прочим, надо заметить, что это ему удалось, благодаря рекомендациям двух женщин). Слова «мне хотелось вновь увидеть Рим» (и он вернётся в этот город) означают, что удовлетворение желания не повлекло за собой насыщения, то есть его желание, которое питалось из неиссякаемого источника детства, частично оставалось невыполнимым.
Что касается выдвинутой нами выше гипотезы о возможном подавлении или запрещении (ведь он же подчёркивал, говоря о своём чувстве, что это была ностальгия «глубоко невротического характера» (в том письме к Флиссу в 1897 году) наслаждаться счастьем в Риме (наслаждаться или сказать Флиссу, что он наслаждался, как знать?), нам представляется закономерным вспомнить в связи с этой поездкой в Рим о письме к Ромену Роллану, в котором много лет спустя Фрейд рассказывает о случившемся с ним «расстройстве памяти на Акрополе». Он пишет, что действительно ощутил что-то вроде раздвоения личности, когда одна его часть, которая «была скорее готова к выражению восторга и восхищения», удивлялась скепсису другой его части.
Итак, на Акрополе вместо «восторга и восхищения» он испытывает что-то вроде чувства неудачи, при котором возврат ранее вытесненного вызывает ощущение нереальности происходящего.
Объяснение, которое даёт он сам, относительно чувства вины за эдипово желание превосходства, возможно, дублируется более глубоким объяснением. В самом деле, как ни странно, Фрейд указывает, что ни его брат, ни он не говорили в этот момент о том, что они чувствовали:
«Я никогда не спрашивал у своего младшего брата, чувствовал ли он что-то подобное. Всё это приключение сопровождалось определённой стыдливостью, и уже в Триесте она мешала нам обмениваться мыслями»,
в Триесте, где, будучи в дурном настроении (парадоксальном дурном настроении), они «отражали» (vorspiegeln) только помехи и трудности. Говоря о скепсисе, испытываемом при получении слишком хорошего известия, too good to be true, он приводит в подтверждение своих слов всевозможные примеры: «Когда человек выиграл крупную сумму, получил большой приз, или когда девушка через своих родителей получает предложение руки и сердца от мужчины, которого она тайно любит».
Эта идентификация с персонажем женского пола в счастливой ситуации пассивности и зависимости приводит нас к тем же выражениям, в которых Фрейд говорит, что он чувствовал себя как будто разделённым надвое. Однако предлагаемое им объяснение затрагивает мужские аффекты, и можно задаться вопросом (опираясь на содержание его статьи, написанной в 1925 году) – но в самом деле речь идёт об истерических симптомах, и это может послужить главным аргументом для тех, кто хотел бы упрекнуть меня за использование этого текста – следует ли предположить, что фантазия, предлагаемая в качестве объяснения (эдипова фантазия о превосходстве над отцом), фантазия, связанная с мужским волнением, скрывает за собой другую, более глубоко спрятанную фантазию, связанную с «женским» волнением?
Можно поинтересоваться, при чём здесь гипотеза о том, что аффект счастья, который, казалось бы, должен был случиться, но который уступил место симптому, связан, возможно, не только с эдиповым чувством вины, акцентируемым Фрейдом, но и с аффектом, оставшимся более глубоко, так как он связан с гомосексуальными волнениями, обусловленными бисексуальностью? К этому вопросу мы вернёмся чуть позже, когда будем рассматривать возможные взаимоотношения между бисексуальностью и лёгким или тяжёлым переживанием аффектов счастья.
Этим воспоминанием Фрейд поделился с Роменом Ролланом, с тем Роменом Ролланом, который был на десять лет его моложе (как брат, который сопровождал его при посещении Акрополя), и который, как ему было известно, умел улавливать некоторые аффективные состояния как в их очевидном аспекте, так и в латентном значении. Так, за несколько лет до того, как рассказать о своём воспоминании об Акрополе, Фрейд писал Ромену Роллану:
«Приблизившись к неизбежному концу моей жизни, о котором напоминает недавняя операция, и зная, что я, возможно, никогда больше вас не увижу, могу признаться вам, что мне редко доводилось столь живо ощущать таинственную силу притяжения другого человека, как это было с вами. Может быть, это каким-то образом связано с нашим осознанием существующих между нами различий». К этим «различиям» мы, возможно, вернёмся чуть позже.
Внезапное начало и резкое развёртывание этого состояния, которые подчёркивал Фрейд и которые часто служат отличительными признаками подобных моментов, пожалуй, способствуют появлению того чувства встречи, завершения, о котором здесь идёт речь, и внушают мысль о родстве с галлюцинаторными состояниями, несмотря на сохраняющееся чувство реальности.
Мы наблюдаем совпадение в нынешней временной точке воспринимаемой реальности и фантазии, внешнего объекта и внутреннего объекта, которые объединены, слиты в едином инвестировании. Идёт ли речь о восприятии Красоты в естественной форме или в форме произведения искусства, о чувстве долгожданного исполнения желания, в любом случае, время как будто приостанавливает свой ход, осознание длительности не стирается, не нарушается, но как будто отрицается, теряет свою значимость, дезинвестируется. Впечатление избегания времени за счёт его подрыва изнутри, за счёт подчёркивания особой значимости настоящего момента кажется ключевым и порождает, хотя бы на какое-то время, ощущение всемогущества, нарциссического триумфа. Мы ещё увидим, какое значение можно придавать этой минимизации одного из элементов реальности в нарциссическом действии, восстанавливающем ощущение всемогущества.
В этом можно увидеть родство с переживанием оргазма, родство несомненно существующее, хотя и дальнее, так как способ разрядки влечения, который мы видим здесь, проявляется в более размеренном, менее жёстком темпе, и идёт смещёнными, сублимированными путями, которые не затрагивают (по крайней мере в классическом случае) соматические компоненты оргастической разрядки и соответствуют понятию «душевный оргазм».
Родство в различии также естественно обнаруживается и в случае с первертной организацией: сверх-инвестирование определённых элементов воспринимаемого, что влечёт за собой внезапное изменение аффективной тональности, и частичное дезинвестирование остальной окружающей реальности, разрядка напряжения, идущего от инстинктов, и всё это достаточно ярко иллюстрирует механизм, характерный для перверсии, с тем лишь отличием (и в этом состоит вся суть имеющейся разницы), что перверт действует в своей перверсии и стремится к оргастической разрядке, тогда как счастливый человек более охотно пребывает в созерцательном, пассивном состоянии, а разрядка влечений происходит по медленной и сублимированной схеме. Существует явное сходство между опытом, который мы пытаемся понять, и «аффективной перверсией», описанной Ш. Давидом, к которой мы ещё вернёмся. Способ разрядки через психическое удовольствие, своеобразный вид ментального оргазма, о котором идёт речь, чётко указывает на это родство.
Пожалуй, механизм перемещения в интересующих нас случаях оказывает более широкое влияние на объект. В самом деле, возбуждение, которое служит спусковым механизмом для аффективного состояния, стимулируется, в свою очередь, материальным объектом, репрезентацией, а то и воображаемой совокупностью, которой требуется лишь опора, и порой очень лёгкая, в объективной реальности.
Возможно, удивительно выглядит отсутствие здесь упоминания о классическом оргазме. Но оргазм – понятие сложное, предполагающее множество вариантов, которые сильно отличаются друг от друга. В зависимости от того, на что делается акцент – на ментальный, аффективный или скорее на чисто соматический опыт, сопровождающий оргастическую разрядку, можно представить себе некую непрерывную цепь, вдоль которой обнаруживаются те или иные варианты. В частности, это может быть крайний случай, когда процесс разрядки происходит без аффекта и без ментализации, это может быть и оргастическое удовольствие, в котором задействуются репрезентации, эрогенные зоны и фантазматическая активность, а может быть и другая крайность – полный, подлинный, связанный с отношениями оргазм, в котором объединяются и образуют синтез разрядка, удовольствие и счастье в рамках определённых отношений. При этом присутствуют, конечно, и всевозможные переходные элементы между этими тремя схематично обрисованными вариантами, что говорит о невозможности простого и однозначного описания. Оставив в стороне первые два искусственно изолированных варианта, мы увидим, что третий включает в себя моменты счастья, но они лишь точечно появляются в опыте тех периодов, о которых пойдёт речь далее.
Впрочем, оргастический опыт (точнее, некоторые опыты некоторых оргастических моментов) многим даёт возможность достигать этих аффективных состояний. Критическая регрессия, действительно сопровождающая оргастическую разрядку, если она может развиваться в достаточной мере вне конфликтных препон, представляет собой наилучшее переживание, которое позволяет читателю, априори «закрытому», немного раскрыться навстречу субъекту нашего исследования.
Периоды счастья могут распространяться на более или менее продолжительные жизненные отрезки, при этом начало таких периодов также может быть относительно резким, но не в этом состоит главная их характеристика. Между прочим, резкость, острота скорее вредят их продолжительности, и довольно трудно, пожалуй, по тем же причинам экономического равновесия, описать долгие, внешне неизменные периоды во всей их интенсивности. Скорее можно говорить о том, что на счастливом фоне (обладающем как минимум теми характеристиками, которые мы рассматривали ранее) прослеживается ритм, как правило рваный, с волнами и пиками.
Одной из основных характеристик этой второй формы, относительно устойчивой по сравнению с предыдущей, является тот факт, что она строится при помощи отношения с объектом, инвестированным особым, специфическим образом.
Мы увидим, что эти формы несут в себе новые характеристики, важные в том смысле, что субъект пребывает в состоянии более или менее ярко выраженной зависимости от своего объекта. Объект имеет значение не только реального объекта, но он всегда служит одновременно и опорой для специфической проекции.
«Реальный человек должен представлять человека из мечты и даже составлять с ним единое целое. Отсюда и бесчисленные неясности, придающие такому бесхитростному делу как любовь завораживающую призрачность! Может быть, реальный человек становится полностью реальным только в любви? Может быть, только такой ценой он способен обрести целостность?»
Следовательно, этот объект имеет одновременно объектальное значение и нарциссическое значение, которые неразрывно связаны между собой, и только пропорции того и другого формируют инвестиции, которые варьируют в каждой паре. Действительно, речь идёт об отношениях пары, об отношениях двоих.
Банально звучит утверждение о том, что пара мать-ребёнок символизирует счастье. Многочисленные «мадонны с младенцем», в которых образ ребёнка, припавшего к груди, служит опорой для эдиповых и прегенитальных проекций, а пара представляет собой фаллическое единство – эта репрезентация, проходящая разнообразными фантазматическими путями, удовлетворяет людей обоих полов.
За пределами проективной сферы, мы знаем, что опыт грудного ребёнка, ещё не обладающего ментальной структурой, необходимой для его построения, не может соответствовать аффективному состоянию, которое мы пытаемся понять. В то же время, опыт матери выглядит иначе, и мы можем предположить, что существует материнское счастье, если только помехи эндогенной природы, невротические, психотические, обусловленные характером, либо экзогенной природы, не затрудняют становление этих особых отношений. Такие отношения, сотканные из объектных и нарциссических инвестирований, составляют лежащую ниже сознания канву для сети коммуникаций, которая служит двуединством, необходимым для жизни, здоровья и развития ребёнка.
Это, совершенно особое материнское отношение использует регрессивные возможности и обеспечивает создание новых единств, позволяющих удовлетворять детские желания. Грудничок может иметь значение эдиповского ребёнка, ребёнка-пениса. Эта ситуация наделяет женщину активной ролью в паре «мать-ребёнок» и удовлетворяет одновременно её собственнические и мужские желания. Вместе с тем, идентификация с её грудным ребёнком открывает путь к регрессивной идентификации, в которой удовлетворяются самые архаичные пассивные тенденции. Ребёнок – реальный объект, пока не имеющий других потребностей, кроме тех, которые способна удовлетворить его мать, и он удовлетворяет таким образом, самим фактом своей зависимости, различные тенденции, обмены внутри двуединства, синтезирующие для матери различные способы удовлетворения в совершенном равновесии, хотя бы на какое-то время, из чего может произойти ощущение полноты: всё здесь, и настоящее, и прошлое, и даже будущее, которые теперь едины.
Некоторые матери с ностальгией вспоминают моменты, пережитые в первые годы жизни их детей, и им трудно приспособиться к взрослению ребёнка, чьи потребности и желания становятся всё более разнообразными. Избирательное инвестирование такого типа отношений может служить причиной всё новых и новых беременностей, так как новорождённый представляет собой объект, наилучшим образом подходящий для построения эфемерного, в сущности, счастья. С этой организацией предпочтений сходно состояние полностью удовлетворённой нарциссической регрессии, испытываемое некоторыми женщинами в период беременности, когда они инвестируют плод как реальный внутренний объект и как многозначный нарциссический объект, а нарциссическая наполненность является результатом «всего в одном» и притягивает все инвестиции, к большому обеднению всякого другого типа отношений.
Фрейд выдвинул гипотезу о существовании различий в качестве инвестирования ребёнка матерью, обусловленных полом ребёнка: якобы мальчику достаётся более полная любовь, чем девочке. На мой взгляд, это неоправданно широкая трактовка преобладающей значимости эдиповых фантазий и недооценка роли женских гомосексуальных инвестиций, главным образом архаического типа отношений, которые при этом устанавливаются.
Так или иначе, пережитые матерью аффекты счастья, несомненно, способствуют созданию особого климата в двуединстве, и можно предположить, что этот климат оставляет в формирующейся психике ребёнка определённые следы, некие приобретения (следы или приобретения, которые можно уподобить фиксациям), которые в дальнейшем помогут расцвечивать объект в галлюцинациях в периоды отсутствия реального объекта.
Счастье матери, находящейся в контакте с ребёнком, как нам кажется, может быть одной из составных частей будущей способности ребёнка быть счастливым. В этом смысле возможно усиление фантазии, если взрослеющий ребёнок слышит, как мать словесно выражает свою собственную ностальгию по некоему потерянному раю («Ах, когда ты был совсем маленьким…»), при условии, впрочем, что никакие вторичные обстоятельства не заблокируют и не перевернут эту тенденцию.
СЧАСТЬЕ В ЛЮБВИ
Если пара «мать-ребёнок» представляет собой очень распространённый символ счастья, то есть и другой его образ, непосредственно связанный с первым – любовник, засыпающий на груди своей любовницы после полового контакта, это картина глубоко регрессивного состояния, наступающего после удовольствия в отношениях пары.
О влюблённой паре сказано уже очень много. Фрейд писал, что формирование гетеросексуальной пары – единственная возможность для достижения счастья, оставленная людям обществом (имеются в виду наши западные общества). Однако эта возможность была обременена целым рядом очень существенных ограничений: нужно, чтобы это была моногамная неразлучная пара, а за рациональными моральными и религиозными доводами в этих ограничениях прослеживалось влияние эдиповских запретов. То есть имелась в виду единая пара, состоящая из мужчины и женщины, ни один элемент которой не подлежал замене, она неразлучна, и все эти условия не оставляли эдипову ребёнку никакой надежды, никакой отдушины, в трансгрессии и в сочинении семейной саги.
В наше время, которое отличается от эпохи Фрейда, моногамия и неразлучность стали менее строгими требованиями со стороны общества, что с виду принесло больше свободы в получении удовольствия, но, похоже, ничуть не изменило условия для достижения счастья.
Поэт написал стихотворение:
«Мы узнали друг друга. Мир открылся
в громком бормотании при обсуждении
всего давнего несчастья, разрушенного под новыми взглядами.
В блеске единства, которое составляют
цветы и пятна, внезапно сложившиеся в гармонию,
каждый оказывается нагим и движется навстречу другому.
Он касается его, нажимает на него. Нас что-то уносит.
Свет обнажает и меняет нас обоих.
Милость должна воцариться. Время окутывает нас,
а счастье медленно съедает его.
Я отдаю и я получаю, я отдаю: так я существую».
А вот как женщина пересказывает свой сон:
«Это было просто, но необыкновенно. Почти ничего не происходило, но я пребывала в состоянии полного счастья. Я была с мужчиной, мы любили друг друга. Я ощущала лёгкость бытия, такую лёгкость, простоту, внутреннюю раскрепощённость, это было неосязаемо и вместе с тем очень интенсивно. И я была равнодушна к действительности, где, впрочем, ничего не изменилось. Я знала, что были всё те же дела, которыми надо было заниматься, были другие люди, но всё это уже не имело значения. Он был здесь и чувствовал то же самое. Это был самый обыкновенный мужчина, такой же, как все, у меня не было ощущения, что он очень красив или молод, или ещё что-то, но то, что мы переживали благодаря друг другу, так точно совпадало, наша любовь упрощала всё, делала всё остальное таким несложным, и всё то трудное и болезненное, что нам доводилось ранее пережить, вдруг исчезло, а с нами осталось лишь главное».
Отличительной чертой этого сна является то, что он состоит только из аффекта, его действующие лица полностью поглощены своим аффектом. Этот сон, приснившийся в период малой депрессии, является отправной точной для возобновления деятельности и возрождения интереса, и он переживается как отражение примирения с самой собой («так значит, я способна любить и быть любимой»). Способность любить повышает самооценку, и если, как отмечал Фрейд, инвестирование объекта и зависимость от этого объекта несколько снижают её (любовь делает униженным), она всё же возрастает во взаимной любви. В этом сне (преимущественно нарциссическом, как и все сны) речь идёт о повышении самооценки, о нарциссическом восстановлении.
Мужчина, которому довелось познать счастье в любви, после периода кризиса, за которым следует разрыв, создал пару с другой женщиной.
«Мы провели прекрасный вечер, мне было хорошо. В постели мы занимались любовью, это было замечательно, у нас всё получилось, и у неё, и у меня. Это было очень интенсивное наслаждение, тем более, что я уж боялся никогда больше не испытать его после разрыва с Н. Потом мы уснули. Но довольно скоро я проснулся. Она продолжала крепко спать, мне же не спалось, я полностью проснулся. Я был рад, что она всё ещё спала. Я чувствовал себя свободным и одиноким, да, свободным, независимым; именно так, независимым. Её присутствие меня чуть ли не смущало. Я предпочёл бы остаться один. С Н. всё было не так. Просыпаясь, я вновь хотел заняться любовью, хотел разбудить её… как будто мне всё было мало… А ещё я любил смотреть на неё, когда она спала, как будто, глядя на неё, я мог погрузиться в её сон. Вчера я ощущал Б. как чужую женщину, что не помешало нам отлично заняться любовью. Как будто таким образом я избавился от желания, которое я к ней испытывал. С Н. я никогда не мог полностью избавиться от желания, это и была любовь».
Здесь, в удовлетворении, полностью не заглушающем желание, мы видим след эдипова опыта, а через него, наверное, и ностальгию по более давним временам. У него появляются ассоциации с родительской парой во времена его детства.
«Это были любящие друг друга люди, порой они ссорились, а мой отец отличался непреклонным твёрдым характером с отчётливыми чертами мужественности, однако мне кажется, что он сильно зависел от матери, хотя с виду это едва ли можно было бы предположить… не знаю, но у меня такое ощущение, что он делал всё, что она хотела».
У него появляются ассоциации о зависимости и независимости, и он признаётся, что, как ни странно, именно ощущение независимости от Б. поддерживает его чувство, «что чего-то не хватает». Потерянное выглядит ещё более чудесным оттого, что возрождает ностальгию по другим поводам.
Очень похожее переживание выражается у женщины, оно окрашено депрессивным нюансом, обусловленным тем, «что чего-то не хватает» (её отношениям с мужчиной не хватает чего-то главного, хотя их половые контакты проходят удовлетворительно и завершаются оргазмом). Она говорит, что не чувствует прежнего вкуса к жизни, и что вероятность смерти оставляет её вполне равнодушной… Затем она продолжает: «Ах, нет, только ради Р. (её маленький ребёнок), потому что пока есть кое-что, что могу ему дать только я как его мать…»
И тут она вспоминает о своей собственной матери, о том, как мать, по её же рассказам, радовалась своей беременности, рождению девочки, первым её годам, какое это было счастье… Нечто необыкновенное, любовь, да, любовь, и она развивает тему о том, что любовь сметает все запреты, о том, что, используя секс, она находится вне секса, выше секса. Что могло бы помешать матери любить её дочь, отчего гомосексуальность исключается из любви? И она переходит к воспоминанию о паре своих родителей и к рассуждениям о том, что любовь это… и к ностальгии о том, что утрачено «всё в одном».
Эти примеры из самой заурядной повседневной клинической практики, как мне кажется, служат наглядной иллюстрацией разницы между удовольствием и счастьем. В самом деле, эти два пациента, чья оргазмическая функция совершенно сохранна, были удивлены и разочарованы, когда обнаружили, что её реализации недостаточно для счастья, хотя в прежних отношениях, где она смешивалась с другими переживаниями, эти люди были счастливы. Ссылка на детство, на любовь в родительской паре и на отношения с матерью (прямые у женщины или в виде идентификации с зависимым отцом у мужчины), как мне кажется, заслуживает особого внимания.
Приведём ещё один фрагмент рассказа женщины о сновидении, в котором речь идёт о том же самом, но с нюансом, обозначающим стратификацию уровней регрессии:
«Мне приснилось, что я влюблена в Ж. (заметим, что Ж. – это актёр, которого она видела в роли Эдипа). Мы стояли напротив друг друга, торс к торсу, я видела, я чувствовала его торс. Я ощущала огромное счастье, желание слиться с ним, раствориться…»
В своих ассоциациях она пытается, защищаясь, сначала сделать акцент на то, что, хотя в её сне половая принадлежность никак не обозначается, она всё же знает, что Ж. – мужчина, а она женщина, и что речь действительно идёт об эротическом желании; то есть она отрицает сходство и инвестирование торса, груди. И только перешагнув через это сопротивление, она может понять, что Ж., он же Эдип, это тот, кто был «ребёнком у груди – любовником у груди» одной и той же матери, и что скрытое желание в её сновидении касается её материнского объекта.
Не всякое удовлетворительное гетеросексуальное отношение находит себе место в нашем описании. Можно вести речь об удовлетворении, равновесии, взаимной любви, и в том или ином случае мы придём или не придём к упоминанию о счастье.
Что это означает? Нет ли парадокса в том, чтобы располагать счастье то в поле, то вне того поля, где находится организация отношений, где нет никакой нехватки, где есть «всё необходимое, чтобы стать счастливым»? Дело в том, что люди сильно отличаются друг от друга.
Как нам представляется, очень важное значение имеет один элемент, который состоит из черты характера, более или менее заметной в зависимости от того, с чем она смешана – речь идёт о некотором инвестировании любви, ощущаемой как единое целое, как знак или судьба. По правде говоря, очень редко встречается счастливая любовь, которая не дублируется любовью к любви. К ощущениям, к инвестированию объекта добавляются в таком случае осознание ценности этого инвестирования как знака и удовлетворение, связанное с желанием объекта. Желание желания другого и его инвестирование представляют собой один из важных элементов и одну из движущих сил, которые поддерживают в равновесии определённые системы общения двоих: при этом каждый может отдавать без меры и получать в ответ. Нарциссическая потеря, связанная с инвестированием объекта, компенсируется нарциссическим взносом инвестирования другого человека. Идеализация затрагивает не столько объект любви, сколько любовное инвестирование, которое привносит особую окраску и возвышает отношения до нарциссического статуса, который составляет их ценность и одновременно делает их такими хрупкими.
Как справедливо отмечала Жанин Шасге-Смиржель, «Идеал Я и фантазии об инцесте тесно связаны между собой», и счастливая встреча влюблённых помогает сгладить поражение в эдипе.
На всём протяжении повествования в первом романе Альбертины Сарразен мы следим за филигранно выписанным присутствием, первенством и жестокостью любви; «антисоциальная» форма, которую она принимала, лишь подтверждала её значимость как трансгрессии. В переписке Альбертины с Жюльеном мы находим подтверждение этого первого впечатления. Сверх-Я, проецируемое на тех, кто докучает, выставляется в смешном свете ради разделённого Идеала Я, страдающего манией величия:
«Мы поженились в окружении чудес, начиная с первого часа, и, на мой взгляд, продолжение было бы вполне логично». «Жизнь одного без другого изнурительна, но нашей любви очень везёт». «О, дорогой и такой похожий, с незажившими, как и у меня, шрамами от жизни». «Я так люблю всё в тебе, ты настолько моё всё, мой отец, мой ребёнок, мой враг в удовольствии и в нём же, как и в горе, мой друг…» Жюльен отвечает: «На самом деле, в нашей жизни не нужен никакой белый камень, всё бело вдали, позади, в ночи времён, и впереди тоже, всё немного расплывчато, но точно». Альбертина говорит: «Мне смешно на них смотреть… нет никакого начала, есть мы. Мы, окончательно охваченные, уносимые, осознаваемые друг другом…»
Уверенность постоянно присутствует у обоих. Лишение свободы и долгие разлуки, несомненно, способствовали вербализации, с одной стороны, и поддержанию позитивного отношения, так что всякая агрессия может быть перенаправлена на «других» виновных в их страдании, а может быть, и в некотором внутреннем освобождении в том смысле, что перенесённое наказание сглаживает требования Супер-эго. Очень ясно читается, что их отношения завязались в узел, с точки зрения глубоких отношений одновременно братских (в преступлении) и материнских.
Состояния счастья, рассматриваемые с позиций первой топики, неизменно устанавливают особый, более лёгкий и более быстрый стиль общения между различными уровнями. Совокупность сознательных восприятий в значительной мере дезинвестируется в пользу нескольких избранных восприятий. Через предсознательные слои они подвергаются своеобразной «сверхактивации» (при которой осознаётся возможный возврат вытесненного) и связываются с воспоминаниями, бессознательными или предсознательными фантазиями, следами в памяти, телесными состояниями, кинестезией. С точки зрения второй топики, здесь можно обнаружить более или менее отчётливое стирание Супер-эго, или, в любом случае, уменьшение веса, которым оно нагружает Я, в пользу Идеала Я (сходного с Оно через самые архаичные свои составные части), что порождает ощущение экспансии, расширения Я. Увеличение нарциссизма в разделённой любви усиливает чувство могущества (тогда как в случае неразделённой или уже не взаимной любви происходит уменьшение Я и усиление Супер-эго). Движения либидо к объекту (центробежные), благодаря взаимности, приводят к нарциссическому усилению (центростремительному), и таким образом всякая утрата компенсируется увеличением.
Вербализация (любовь по переписке живёт во многом за счёт вербализации) помогает поддержанию и возобновлению аффекта. Она продляет аффект, оживляет его и добавляет новое удовольствие, то есть это дополнительная жизнь, порождаемая словом. Она представляет собой средство для медленной разрядки, она служит одним из побочных способов, благодаря которым устанавливается и проходит либидинальное напряжение. Напротив, то, что [нечитаемо] рискует быть утраченным, убитым. Подтверждённая связь между этими репрезентациями и словами ложится тяжким грузом на регистры счастья за счёт поддержания нарциссического статуса.
Кристиан Давид замечательно, со всеми необходимыми нюансами описал состояние взаимной любви. Предмет моих размышлений неизбежно привёл меня на те пути, которыми следовал он, и мне случалось долгое время идти параллельным курсом, поскольку, как справедливо отметил Фрейд, любовь по-прежнему является тем средством, которое люди особенно часто используют для обретения счастья. И вот я наткнулась сразу на несколько подводных камней: что лучше – приводить слишком длинные цитаты из его произведения и перефразировать его (так лучше уж отсылать к прочтению или к перечитыванию его книги), окинуть беглым взглядом то, что он сумел так прекрасно описать, но такая моя попытка лишь придаст ещё больший вес его объяснениям, или смириться с непростой необходимостью связать с его умозаключениями мои собственные рассуждения, которые, впрочем, не смешиваются друг с другом, хотя и во многом похожи.
Я хотела бы кратко перечислить темы, которые он развивал до меня, и в которых я нашла прекрасно сформулированные ответы на многие вопросы, по которым наши размышления сходны:
Любовные отношения служат главным образом тем полем, где может ощущаться включённость воображения в сексуальность, исходя из «игры», о которой писал Фрейд, между влечением и его объектом. Нарциссическая недостаточность поддерживает поиски другого в качестве другого. Взаимный порыв страсти поддерживается одновременным воскрешением травм от разлуки и эдиповых фрустраций, он нацелен на наполнение. И к тому же любовь даёт повод испытать чувство вечности, вневременности. Разговоры о любви помогают в её создании, а отсутствие таких разговоров обедняет её.
Идеализация объекта играет подавляющую роль, но потеря на уровне «дикой» сексуальности компенсируется дополнением в плане первертного измерения. На самом деле, состояние влюблённости относится, по крайней мере с одной стороны, к «аффективной перверсии», а ментальный оргазм сродни аффективным состояниям счастья и порой даже можно их перепутать друг с другом.
Счастливая любовь питается первертным ментальным полюсом и эротическим полюсом, поддерживая таким образом постоянство желания, а самое живое удовлетворение никогда не влечёт за собой полное насыщение, однако напряжение постоянно возобновляемого желания не уводит отношения на драматичные регрессивные пути благодаря «оргастическому пунктиру», который удерживает их в чисто человеческом регистре.
Эти счастливые отношения действительно соответствуют расположению на гребне, чем и объясняется присущее им хрупкое равновесие между двумя видами риска, противоречивыми, но очень реальными (вес каждого из них обусловлен индивидуальной структурой…). Если эротическое инвестирование играет доминирующую роль, то удовлетворение потребности, порождённой влечением, имеет своим следствием насыщение, а угасание желания, увязание в теплоте, привычка и скука постепенно сводят счастье на нет.
Сверх-инвестирование первертного ментального полюса с его нарциссическими компонентами может увлечь отношения на пагубные садомазохистские пути, где первое место принадлежит фрустрации.
Мы уже подчёркивали, что определённый способ инвестирования любви на самом деле маскирует стремление к смерти, и легенда о Тристане представляет собой модель (порой повторяемую) такого поведения. Трансгрессия, объединяющая Тристана и Изольду, действительно развивается по пагубному регрессивному пути, но это целомудренные влюблённые; объединение, телесное слияние для них остаётся запретным из-за чувства вины, связанного с удовольствием, из-за эдипова чувства вины, а их история иллюстрирует взаимосвязь между любовью и смертью, поскольку чересчур сильная идеализация действительно таит в себе смертельную опасность для счастья.
Если оргазм как будто бы играет регулирующую роль, выполняя экономическую функцию в поддержании этого хрупкого равновесия, то он выступает также и основным моментом в отношениях, когда общение становится всё более интенсивным, достигая наивысшей своей точки. Он позволяет реализовать (во сне, но сон располагается строго в нарциссическом регистре) самую полную, самую глобальную психосоматическую регрессию.
«Субъект устраивает герметичную закрытость от мира и от себя самого, исчезновение, но это лишь для того, чтобы полностью погрузиться в самое интенсивное чувство полноты, которое он способен испытывать, чтобы разрешиться в нём. Это чувство переживается как достижение слияния с другим человеком, как удовлетворение глубинного желания вновь обрести свою мать и слиться с ней. Через оргазм мы, вероятно, вновь испытываем блаженство младенца у груди или в материнской утробе. Это самая крайняя форма одной регрессии на двоих».
Подлинный оргазм, один оргазм на двоих позволяет получать через глубину регрессии в слиянии то же, что первертный оргазм даёт за счёт жестокости удовольствия. Но он требует, как справедливо отмечают Д. Брауншвейг и М. Фэн, «целостности этой совокупности, малейший недостаток которой портит единство».
Незабываемые моменты, которые трудно описать, которые оставляют неизгладимый след и изменяют отношение человеческого существа к ограниченности его бытия, к кастрации, к узости его судьбы. Человеческая организация в виде пары может, как мы знаем, подвергнуться серьёзному испытанию из-за непреодолённого эдипова конфликта, суровости эдипова Супер-эго, остаточных прегенитальных страхов и т. д. Несмотря на эти трудности, мы знаем пары, живущие в счастье, и те, которые живут совсем в другом состоянии, из-за глубоких причин, обусловивших выбор любимого человека, из-за глубоких причин, зависящих от структурирования личности.
И хотя два типа выбора любимого человека, которые описаны Фрейдом, то есть выбор через рассредоточение, описываемый как мужская особенность, и женский нарциссический выбор, очень часто соответствуют клинической реальности, нам представляется, что счастливая любовь охотнее приживается на двустороннем выборе смешанного типа, когда каждый приносит другому то, что он упустил в нарциссическом смысле («В любви каждый отдаёт то, чего у него нет», как писал Ж. Лакан), и каждый играет как роль родителя-защитника, так и роль защищаемого ребёнка.
Говоря о коитусе, Ференци выдвинул гипотезу о том, что он реализует временную регрессию, в которой у обоих полов выражается желание вернуться в материнское тело. Это особая ситуация, наиболее архаичная и наиболее счастливая из всех, какие только могут быть достигнуты (даже с точки зрения такого пессимиста как Фрейд) в отношении пассивности и зависимости, напоминающем отношение совсем маленького ребёнка к контакту с матерью. Критический исход этих отношений, переживаемый во всей своей полноте, связан с использованием и с удовлетворением пассивных (так называемых женских) тенденций у обоих полов.
Всё это приводит нас к необходимости рассмотреть ту роль, которую выполняет бисексуальность в счастливых любовных отношениях. Зависимое положение каждого из элементов пары, полное доверие, слияние душ и тел аналогично тому, что происходит при контакте ребёнка с матерью в первые месяцы его жизни, когда мать, ощущаемая как всемогущее создание, источник добра, обеспечивает ему чувство полноты.
Это заставляет нас также оценить значимость истории, в которой Юнона ослепила Тиресиаса за то, что он обнаружил (побыв то мужчиной, то женщиной), что женское удовольствие в любви значительно интенсивнее мужского. Сокрытие латентного значения при помощи очевидного значения не должно вводить нас в заблуждение. Пожалуй, было бы ошибочным полагать, что Тиресиас утверждал, будто форма женских половых органов более располагает к получению удовольствия, чем форма аналогичных органов у мужчины. А может быть, точнее соответствовало бы его идее предположение о том, что так называемая женская аффективная позиция в отношениях (пассивность, готовность принимать, зависимость) в любви даёт более яркое наслаждение, что женская сторона души (как у мужчины, так и у женщины) превалирует в отдельных моментах счастья?
Есть некое (внешнее) противоречие в том, что гетеросексуальная пара наилучшим образом приспособлена для познания этого счастья, поскольку она находится в более выгодной позиции для обретения драгоценного содержания своего опыта первых лет жизни, который возобновляется, переделывается, реструктурируется на уровне первичной сцены, а затем и на уровне эдипа, когда удаётся интегрировать конфликты, способные помешать ему дойти до завершения.
Путь мужской гомосексуальности, где придаётся такое большое значение пенису (фаллос как фетиш, как частичный объект), делает эти ощущения труднодоступными, а женская гомосексуальность преграждает путь к удовольствию через нарушения на уровне идентификации с матерью, влюблённой в отца. Таким образом, гомосексуальность, как женская, так и мужская, привязана, прикреплена к инвестированию разницы полов и не может достичь той сферы, где нашла бы удовлетворение бисексуальность, сплавленная в единое движение.
С первых дней жизни инвестирование родителями, обществом и самим ребёнком разницы между полами способствует тому, что ребёнок утрачивает часть своей психической сущности.
Пройдя путь эволюции, он способен вновь полностью оказаться в любовном единении с другим человеком, если параллельно с генитальными гетеросексуальными отношениями могут сформироваться регрессивные отношения, в которых другой человек является двойником, матерью, «мной и тобой в одном лице».
Повторное обретение психической бисексуальности даётся мужчине значительно труднее, чем женщине, во всяком случае на нашем патриархальном Западе, так как фаллическое инвестирование и страх кастрации являются порой трудно преодолимыми препятствиями на этом пути. Это самая большая регрессия, происходящая у женщины через отречение от любых форм фаллических притязаний, а у мужчины – через отречение от любой формы повторного фаллического обретения уверенности.
Слово «женственность», используемое для обозначения второй части мужской бисексуальности, поддерживает двусмысленность (вновь активируя фантазию о кастрации). На самом же деле речь идёт о готовности принимать, о зависимости, о возможности регрессии в сторону удовлетворения пассивных либидинальных тенденций, которые противоречат лишь некоторым, исключительным и примерным аспектам мужественности. Речь идёт не столько об отречении от половых особенностей, сколько о повторном обретении (а точнее, о реализации фантазии) состояния, в котором различение полов ещё не перекрыло некоторые пути.
Успех такого объединения, такого воссоединения, это постоянная подпитка для желания, которое полностью не угасает от удовлетворения, поскольку насыщение никогда не достигается; регрессия может поддерживаться у взрослых только в течение короткого времени, и потому желание достичь регрессии поддерживает собой желание воссоединения и делает желание долговечным. Согласно мифу об андрогине, рассказанному Аристофаном в «Пире» Платона, представляет собой предпринимаемую людьми попытку скрепить место первичного разрыва, из-за которого части единого целого оказались разлучёнными.
СОСТОЯНИЕ СЧАСТЬЯ У МИСТИКОВ
Они отличаются в некоторых аспектах, однако очень похожи на те моменты или периоды счастья, которые мы описали, переживаемые некоторыми верующими, для которых вера в Бога служит источником мифических экстазов или даже просто счастливых периодов в их вере и благодаря их вере. Здесь мы вновь наблюдаем эффект отношений пары, отношений двоих. «Душа должна думать, что в мире есть только Бог и она сама», – писала Тереза Авильская.
О, пламя любви живой,
что нежно так ранишь
душу мою в глуби сердечной!
Ибо не ускользаешь уже,
престал уже, как ты желаешь;
рви ткань этой сладкой встречей.
О, нежное прижигание!
О, язва приятная!
О, тонкое касание, о длань мягкая,
что о жизни предвечной знает
и все долги возмещает!
Убивая, смерть в жизнь пременяет.
Куда, быстрее лани,
сорвав с души,
как кожу, покрывало,
умчался мой Желанный?
Он отворил мне погреб,
и этих вин нечаянная малость,
мои рассеяв скорби,
во мне гореть осталась,
а стадо без присмотра разбежалось.
Поил меня он грудью
и дивной напитал меня наукой,
там стал моей он сутью,
и смыслом, и порукой.
Там поклялась я быть его супругой.
«Я чувствовала, что умираю от желания узрить Бога и не знала, где найти эту жизнь, если не в смерти… О, высшее искусство… Вы прятались от меня, и ваша любовь обнимала меня такой сладостной смертью, что душа никогда не пожелала бы выйти из неё».
«… Душа не стремится разбередить в себе эту рану от отсутствия Господа, но стрела вонзается в самую глубину существа её и одновременно в сердце, и вот душа уже не ведает, что она имеет, чего она хочет… душа вечно хотела бы умереть от этой боли» (с. 206, § 10).
Есть также описание херувима «в телесном его обличии», «в руках его длинное золотое копьё, на острие которого, как мне показалось, мерцала искра пламени…»
«Это боль не телесная, но духовная, однако и тело тоже немного причастно к ней, или даже очень причастно».
«О Любовь, как случилось, что ты позвал меня с такой любовью и помог мне в одно мгновение понять то, что язык объяснить не в силах?
Бог сделался человеком, чтобы дать мне Бога; так и я хочу стать Богом полностью, через соучастие».
«В момент сильной физической боли, когда я старалась любить, не считая себя вправе дать этой любви имя, я ощутила, будучи нисколько к тому не подготовленной (так как никогда не читала труды мистиков), присутствие более личное, более явное, более реальное, чем присутствие человеческого существа, неподвластное органам чувств и воображению, подобное любви, которая проглядывает в самой нежной улыбке любимого человека.
Дух сошёл и принял меня».
«Едва лишь я подумал, что Бог есть, я понял, что не мог поступить иначе, кроме как жить только ради Него одного: моё религиозное призвание родилось в тот же миг, что и моя вера».
«Впрочем, оказалось, что мне удивительнейшим образом известная истина о самой широко обсуждаемой теме и о самом давнем разбирательстве: Бог существует. Я встретил его».
«… Очевидность существования Бога, очевидность в присутствии и очевидность в лице того, чьё существование я готов был оспорить минутой ранее, кого христиане называют Отец наш небесный, и который, как я узнал, нежен, то есть обладает нежностью, непохожей ни на чью другую, это не пассивное качество, которое порой обозначают тем же словом, но нежность активная, разбивающая и превосходящая любое насилие, способная расколоть и самый твёрдый камень, и человеческое сердце, ещё более твёрдое, чем камень… Его внезапное появление, бурное и абсолютное, есть не что иное как ликование спасённого, радость человека, потерпевшего кораблекрушение, к которому вовремя подоспела помощь».
Перед нами пять мистических переживаний, рассказанных мужчинами и женщинами, каждое из которых имеет свои особенности, но мы не станем задерживать внимание на этих особенностях, как и на анекдотических, биографических или структурных элементах, которые могли бы пригодиться нам лишь для выработки классификации по различным системам организации невроза, психики или характера. Нам важно здесь другое: у этих людей, которые встречали на своём жизненном пути разные виды счастья, и, если верить им, далеко не самые мелкие, можно заметить нечто общее с другими «познавшими» счастье, о которых мы уже говорили, это сходство путей, потребностей, возможностей.
Говоря о своих духовных переживаниях, они используют язык любви, а некоторые из них даже настаивают на его применении. Симона Вейль писала:
«Неправы те, кто порой упрекает мистиков за использование языка любви. Им по праву принадлежит этот язык. Другие же могут лишь взять его взаймы».
Вербализация любовных аффектов действительно относится к сфере ментализации, сублимации. Способ подхода и разрядки влечений, который реализуется через неё, может создать иллюзию, будто она принадлежит к другой сфере, и что здесь речь идёт совсем не об этом. Однако нам стоит задаться вопросом, не имеют ли влюблённые и мистики общих структурных характеристик или возможностей?
Похоже, что имеют, поскольку изначально возможности мистиков в любовном смысле как будто бы не вызывают сомнений, но при дальнейшем поддержании аскезы у них происходит разделение, расщепление, а затем постепенное очищение, всё более совершенная сублимация.
«…У многих есть разные несовершенства, которые можно назвать духовным сластолюбием, не потому, что это так в прямом смысле, но оттого, что эти несовершенства часто происходят от вещей духовных; ибо часто случается, что во многих духовных упражнениях эти люди, не держа себя в руках, возносятся и впадают в чувственные побуждения и похотливые действия, иной раз даже тогда, когда дух их глубоко погружен в молитву или во время таинств покаяния или Евхаристии… Это часто происходит при Евхаристии, когда в этом деянии любви душа воспринимает наслаждение и радость, которые дарует ей Господь (так как для этого она и дается), чувственная часть человека также берёт своё, как мы уже сказали, свойственным ей образом; и поскольку эти две стороны человека предположительно едины, они обычно разделяют между обеими то, что принимает одна, каждая своим способом».
При мистическом подходе по некоторым признакам прослеживается «аффективная перверсия», описанная К. Давидом. Он подчёркивает, что такое состояние представляется ему «более близким к неврозам и, в частности, к истерии, чем к перверсии, тем более к психозам или к психопатиям». Черты (и приступы) истерии, нередко отмечавшиеся в жизни знаменитых мистиков, действительно, подтверждают эту мысль. Однако, по нашему мнению, объяснять всё это истерическим неврозом было бы слишком просто и совершенно не достаточно для того, чтобы описать явление, гораздо более сложное.
Счастье, выражаемое в некоторые моменты христианскими мистиками, довольно характерно для них в том смысле, что такого понятия мы не обнаруживаем в трудах дальневосточных мистиков.
Однако такой способ, используемый для совершенствования духовной жизни, как аскеза, совершенно очевидно обладает теми же самыми особенностями: повсюду проповедуется покорность, покорность чётко сформулированным правилам, которые предписаны иерархом (главой общины, гуру) и как будто бы играют роль опоры для проекции Супер-эго, а также униженность из-за полной покорности этому иерарху. Константой является отказ от сексуальной жизни и строгое воздержание. Отречение от чувственных удовольствий вписывается в канву всевозможных лишений, а они влекут за собой (в результате влекут за собой или имеют соответствующую цель) изменения в привычном психофизиологическом равновесии: лишение сна, отказ от употребления тех или иных продуктов, ограничение объёма поглощаемой пищи, которое ужесточается в периоды поста. На непостоянной основе может применяться физическое или духовное самоистязание, ношение власяницы, нанесение ударов, ран, пребывание в неудобной позе, испытание холодом, преодоление собственного отвращения, что даёт основания для предположения о наличии у таких проявлений аскезы аутоэротического значения в связи с либидинальной коэкситацией, которую они способны вызывать. За счёт временной или строгой изоляции сенсорная депривация и аффективная депривация создают условия, отличающиеся от привычных условий жизни.
Наконец, а может быть, и главным образом, аскеза заключает в себе и всё остальное, что можно рассматривать как подготовительные условия, попытку отказаться от мышления, от ментальной деятельности в любой её форме, такой как рассудок, суждение, рефлексия, чувство, репрезентации; речь идёт о том, чтобы достичь состояния ментальной пустоты, полного, насколько это возможно. «Отстрани вещи, любовник, мой путь есть бегство». Иными словами, имеется в виду осуществляемая различными способами регрессия на ту дорогу, на которой, как кажется, может появиться целый ряд необычных аффектов. Известно, что, в зависимости от способа ментального структурирования, люди очень по-разному реагируют на важные психосоматические изменения эндогенного и экзогенного характера.
Заметим, кстати, что некоторые посредством аскезы достигают своих целей, тогда как другие отказываются продолжать свои усилия, что происходит спонтанно, как будто бы естественно… И это открывает перед нами очень интересный аспект размышлений, о котором я пока умолчу.
Таким образом, аскеза в общих своих чертах одинакова в том, что касается проекции Супер-эго, пассивности и покорности другому, принуждения самого себя к психосоматической регрессии при помощи различных практик.
Вместе с тем, складывается впечатление, что ожидаемая регрессия, если она действительно коренным образом меняет привычный образ мыслей и чувств, даёт переживания, содержание которых существенно различается на Западе и на Востоке – скажем так, чтобы было проще. Вероятно, различия обусловлены особенностями религиозных концепций, отражающими специфику тех цивилизаций, в которых они существуют.
Иудейско-христианские западные верования монотеистического типа являются реляционными религиями, в которых человек и Божество рассматриваются как кардинально, качественно различающиеся существа. Религия заключается в отношениях между человеком и Богом (Богом, внешне более или менее напоминающим человека, по образу и подобию отца в эдиповом понимании), и в этих отношениях есть место любви. Состояние экстаза даёт предвкушение небесного блаженства.
Высшая награда – рай, о котором человек мечтает и в который он попадёт после смерти – это место, где душа наслаждается божественной любовью; исходя из этой цели (которая служит обещанием вечной жизни и устраняет из картины мира смерть), любые лишения возможны и даже желательны.
«Христос сошёл и принял меня» (Симона Вейль). Бог любит нас, он желает нам счастья. Здесь мы видим желание желания другого. «Господь Бог захотел меня, и я ему за это благодарен», – писал один старый священник.
Всемогущество делегируется, и это благотворное всемогущество; мы можем заметить в поведении верующего нечто сильно напоминающее поведение влюблённого, счастье которого тесно связано с близостью тех отношений, которые он мог бы построить с другим человеком. В одном случае речь идёт о внутреннем объекте (проецируемом в чудесную иллюзию), а в другом случае перед нами внешний объект, служащий опорой для иллюзии. В обоих случаях налицо нарциссическая составляющая. Религии дальневосточного типа строятся вокруг Бога, не персонализированного или слабо персонализированного (а то и принимающего различные формы, что сближает эти верования с многобожием). Его особенность состоит не в том, что он радикальным образом отличается от человека, поскольку аскетические практики действительно способны помочь человеку избавиться от его человеческой сущности и приблизиться к божеству, так что каждый сумеет найти или вновь обрести в себе самом (а именно это и есть цель аскезы) некую частичку того, что присуще Богу. В этом случае мы наблюдаем переход (и очень непростой переход, хотя и возможный для некоторых людей в определённых условиях) от мира иллюзии, порождающего страдания, к миру отстранённости, покоя, отсутствия мучений. Любовь здесь почти ни при чём, или, вернее, она тоже относится к миру привязанности, миру страданий.
И здесь нужно перебросить мостик к тому, что мы уже говорили о западных мистиках; можно предположить, что на Западе люди пытаются обрести личное всемогущество, не делегируемое богоподобному отцу, найти или в некотором смысле вновь увидеть пути причастности к изначальному всемогуществу (посредством регрессии, которая в этом случае будет несколько глубже, чем в предыдущем варианте). Некоторые ереси на Западе были объявлены таковыми именно из-за своей близости к концепции, которая преподносит как вполне возможное явление причастность человека к божественному всемогуществу и сокращает пропасть между Богом и человеком, а в крайнем случае даже полностью устраняет её (так же, как исчезает разница между Я и объектом). Любовная лексика, так часто встречающаяся в работах христианских мистиков, в трудах восточных мистиков не звучит, её место занято нарциссической риторикой.
Что касается аскезы, которая, как мы уже отмечали, в общих чертах повсюду одинакова, разница заключается в том, что на Западе эротизм осуждается гораздо более радикально, чем на Дальнем Востоке, где он порой является составной частью некоторых аскетических практик.
«Обычные» верующие, которые не относятся к числу мистиков, а спокойны в своей вере, не знают ни религиозного экстаза, ни счастливых моментов (тех, о которых мы говорили), инвестируют божество по модели выбора объекта любви через рассредоточение. Они чувствуют себя как будто в тени доброго, оберегающего родителя (более или менее сурового), вероятно, благодаря аффективной организации, которая отличается от описанных выше. Поэтому, хотя им неведомы те взлёты, которые переживают мистики за счёт нарциссического инвестирования, всё же они ощущают доверие более ровное и менее обеспокоенное, так как, по той же причине, они меньше подвержены риску пережить периоды тревоги, которые у мистиков, из-за переменчивости, сопровождают те моменты, когда потеря объекта следует за счастливой близостью и тем самым ввергает в состояние опустошённости, огромного одиночества, абсолютной нехватки – всё это оборотная сторона счастья, знакомого мистикам.
Та сходная черта, которую мы обнаруживаем и в счастье мистиков, и в упомянутых выше формах, которые присутствуют у влюблённых, состоит в близости к аффективной перверсии. Активность воображения в данном случае также, действительно, больше затрагивает аффекты, чем репрезентации (хотя аскеза нацелена на устранение репрезентаций и, в принципе, аффектов тоже…), мы наблюдаем перемещение и интериоризацию желания, а способ разрядки напряжения, вызванного влечениями, реализуется также в сокращённом и размазанном виде (если оставить в стороне оргастические «инциденты»).
Описываемые нами различия между Западом и Востоком, конечно, далеко не догма… указанные псевдогеографические расхождения помогают лишь подчеркнуть наличие определённых заметных тенденций, встречающихся более или менее часто, в зависимости от цивилизации. В начале этой главы мы процитировали работы некоторых христианских мистиков. Если внимательно перечитать эти отрывки, то мы обнаружим, что святая Екатерина Генуэзская, используя любовную риторику, порой выражает едва ли не еретическую позицию: «Бог сделался человеком, чтобы дать мне Бога; так и я хочу стать Богом полностью, через соучастие…» Некоторые христиане, монахи-пустынники, египетские анахореты, столпники (а это течение, возможно, зародилось на Востоке) своими поступками, приводившими их к смерти на глазах у людей, в поисках равнодушия («исихазма») сближаются с тем, что я называю «восточным» подходом. Между тем некоторые представители Востока, напротив, охотнее идут по пути любви. Воздействие среды в широком смысле слова, того или иного философского образа мысли, несомненно, имеет значение, но в данном случае меня интересуют индивидуальные модели поведения и избираемые способы построения отношений. Независимо от классических религиозных позиций и «партий», у некоторых людей порой обнаруживается то, что можно с полным правом назвать религиозным духом или набожностью (либо приверженностью вере), что на самом деле предрасполагает к определённым состояниям.
Говоря о религиозной мысли, Фрейд проявлял нерешительность и сдержанность. Гийомен выдвинул совершенно здравое предположение о том, что, должно быть, Фрейда смущал тот момент, где религиозная мысль подвергает сомнению переживания матери, если речь идёт о судьбе влечений с пассивной целью. То есть он обнаруживает ту же самую двойственность по отношению к тайне, что и по отношению к женственности, а также и по отношению к глубоким отношениям с матерью.
В 1930 году он писал Ромену Роллану: «Следуя за вами, я сейчас пытаюсь проникнуть в индуистские джунгли, от которых я до сей поры держался на расстоянии из-за некоей смеси греческого пристрастия к умеренности – [слово на греческом языке], еврейской сдержанности и филистимлянской тревожности… но выйти за свои собственные границы – непростая задача…»
Похоже, что Ромен Роллан был для Фрейда собеседником, с которым он обсуждал чётко ограниченный круг вопросов. Тот самый Ромен Роллан, которые не боялся следовать некоторыми регрессивными путями, который комфортно чувствовал себя с некоторой психической гомосексуальностью, отдавая себе отчёт в ней и умело обуздывая её, наконец, тот самый Ромен Роллан, который отличался интенсивной и глубокой «набожностью». Воспитанный верующей матерью и ставший атеистом, он переживал моменты душевной радости, которые очень похожи на «моменты счастья». Он рассказывал о трёх «озарениях», о трёх «священных секундах», которые, по его мнению, наложили отпечаток на всю его жизнь.
Первое из таких озарений снизошло на него в возрасте шестнадцати лет на террасе в городе Ферней (он бывал там в обществе матери и сестры, тогда как отец его находился далеко):
«… Одна минута… Даже меньше! Двадцать секунд… и удар молнии… Я вижу, наконец-то я вижу!… Но что я увидел? В окружающем ландшафте, хотя он и был очень красив, не было ничего необыкновенного… Так почему же именно здесь меня посетило откровение, здесь, а не где-либо ещё? Не знаю. Но будто пелена разорвалась перед моим взором. Разум, как насилуемая дева, которая отдаётся жёстким объятиям, ощутил, как восстаёт в нём мужское опьянение природой. И в первый раз он осознал… Все прежние ласки, поэтическое и чувственное волнение, порождённое пейзажами в окрестностях Невера, мёдом и смолой под солнечными лучами в летние дни, всё обрело смысл, всё получило своё объяснение; и в ту же самую секунду, когда я увидел обнажённую Природу и “познал” её, я полюбил её в своём прошлом, поскольку узнал её в том времени. Я узнал, что принадлежу ей с первых дней своей жизни, и что я смогу творить…»
По его словам, второе озарение произошло двумя годами позже. Это был тоскливый зимний день, он сидел в своей холодной комнате и изучал труды Спинозы, готовясь к экзамену…
«Хватило одной страницы, самой первой, четырёх определений и нескольких искорок пламени, которые вспыхнули, будто высеченные огнивом, над страницами “Этики”… В этих определениях, написанных пламенеющими буквами, я рассмотрел не то, что в них содержалось на самом деле, а то, что хотел сказать я сам, те слова, которые моё детское мышление отчаянно пыталось вымолвить при помощи непослушного языка… Помрачение ума! Огненное вино. Двери моей темницы распахнулись. Вот и ответ… “Всё сущее есть в Боге”. И я тоже, я в Боге! Из своей холодной комнаты, в которой сгущались зимние сумерки, я умчался на край пропасти самой Материи, под белое Летнее солнце».
Через некоторое время озарение наступило в третий раз:
Поезд шёл по железной дороге и вдруг остановился в тоннеле, свет погас. Он стоял и стоял, пассажиры забеспокоились. «Я грезил… Мне казалось, что тоннель раскрылся. Я видел там, наверху, залитые солнцем поля, колышущуюся на ветру люцерну, взмывавших в небо жаворонков. И я сказал себе: “Всё это моё”. “Я здесь. Какое мне дело до этого тёмного вагона”, а несколько секунд спустя – другая мысль: “а что если я буду раздавлен? Я? Нет! меня ничто не держит”. Более текучий, чем “воздух, Протей, способный принимать тысячу обличий, я проскальзываю между пальцами, я убегаю…” “Я здесь и там, везде, я и есть всё… И пока я сидел, сжавшись в комок, в тёмном углу ‘неподвижного’ вагона, моё сердце смеялось от радости…”»
Отправной точкой первого «озарения» послужило восприятие; за счёт ассоциаций разного уровня сформировался комплекс, в котором прошлое, настоящее и будущее слились воедино и обрели своё элационное значение. Следующие два озарения, одно через чтение, а второе через компенсаторное воображение, помогли ему внезапно осознать то, что он ощущал как божество, и своё ощущение причастности к этому божеству.
Описывая наступление аффективных состояний, Ромен Роллан не забыл уточнить, в каком контексте, на каком фоне это происходило. Так, первое из них сопровождалось сложной совокупностью обстоятельств: отсутствие отца, путешествие с матерью и с маленькой сестрой, «Мадлен второй» (возможно, это намёк на трагическую гибель другой младшей сестры, Мадлен первой), в раннем детстве. Два других эпизода произошли в тяжёлых условиях: одиночество и трудная работа в холоде – в одном случае, и ситуация тревоги по поводу грозящей опасности – в другом. На наш взгляд, очень любопытно отметить, что аффект радости, нарциссического ликования от собственного всемогущества появляется на воображаемой канве грусти, опасения и горя. В дальнейшем мы поговорим об этом более подробно.
Есть и ещё одно соображение, непосредственно связанное с теми, которые касаются бисексуальности влюблённых и, в частности, использования мужчинами их женских характеристик. Мы совершенно ясно видим пассивность и зависимость от объекта или от инвестированной совокупности. Процитированные нами стихи святого Иоанна Креста написаны в женском роде. «И я отдавалась, полностью и без остатка; я поклялась стать его супругою». Конечно, явное содержание даёт понять, что таким образом душа обращается к Господу… И точно такая же тенденция прослеживается в тексте Ромена Роллана: «Разум, как насилуемая дева, которая отдаётся жёстким объятиям, ощутил, как восстаёт в нём мужское опьянение природой…» Зависимость и пассивность, выражаемые женщинами, становятся менее заметными, когда они более охотно проявляются в привычном порядке вещей.
СУЩЕСТВУЕТ ЛИ СПОСОБНОСТЬ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ?
Рассуждая об идее Ромена Роллана об «океанском чувстве», Фрейд с полным на то основанием оспаривает утверждение о том, что это чувство присуще всему человечеству, и, соглашаясь с тем, что собственного опыта подобного рода у него нет, предлагает отнести его к первоначальной фазе формирования чувства Я. Чувство безграничности, бесконечности, вечности, чисто субъективной данности, которое, по мнению Ромена Роллана, отличному от позиции Фрейда, служит главным источником набожности, чётко соотносится с регрессивными состояниями, которые испытывают люди, столкнувшиеся с теми или иными видами мистических либо любовных переживаний. Обсуждение этой темы, предпринятое Фрейдом, интересно одной деталью: по его же словам, он вовсе не уверен в том, что «океанское чувство» может рассматриваться как источник всякой религиозной потребности: «Чувство способно стать источником энергии лишь в том случае, если оно само является выражением настоятельной потребности». И, говоря о себе, он приписывает религиозную потребность ностальгии по отцу и стремлению к детской зависимости. Таким образом, он льёт воду на мою мельницу… (если только мы распространяем на прошлое ностальгию по отцу, ностальгию по первичной матери).
В самом деле, изначальная движущая сила как будто бы связана с дискомфортом, с болью, с тревогой по поводу потери, недостатка, что порождает желание вернуться к объекту своего детства, оберегающему, всемогущему и дающему безупречное удовольствие. Регрессивное направление, свойственное пути к зависимости, может быть использовано для формирования спокойной веры в Бога или безмятежной любви, но может привести и к углубляющейся регрессии, к возникновению моментов или состояний счастья, либо же океанского чувства, и все они отличаются вновь обретённой полнотой. Однако этот путь, использующий зависимость, начиная с определённой степени углубления (или усугубления) регрессии, кажется открытым, возможным и благотворным для одних, но представляется закрытым, невозможным и опасным для других. Можно предположить, что такая вероятность зависит от точек или зон фиксации, установленных слишком рано. Объект, помогающий вновь обрести целостность, независимо от того, насколько существенными должны быть проекции для его достижения, является в значительной степени воображаемым объектом, который на определённое время вновь смешивается с Я.
Может быть, мы попробуем уточнить те способы организации, которые для других оборачиваются неспособностью. Что касается первых двух описанных нами форм, как мне кажется, самая суть такой способности кроется в умении инвестировать в одно и то же движение (или в следующие друг за другом движения, которые настолько близки друг к другу, что их легко перепутать) восприятий переживания в настоящем и ассоциативных цепочек (предсознательных и бессознательных) из элементов прошлого, которые уже приняли участие в создании внутренних объектов. Соединение воспринимаемого с воспоминанием или с воспоминаниями порождает особый аффект, отличающийся чувством единства, нарциссической целостности, который напоминает повторное обретение утраченного объекта.
«Как когда-то в предвкушении улыбки своей матери, теперь она просыпалась под верной ладонью своего любовника». «… Присутствие… подобное любви, которая проглядывает за самой нежной улыбкой любимого человека…».
Особый опыт, получаемый за счёт такого слияния, стирает или по крайней мере существенно сглаживает ограничения, установленные реальностью, в частности, те из них которые связаны с временностью. Ощущение, как будто время приостановило свой ход, способствует восстановлению чувства всемогущества, которое сметает все ограничения, кастрацию, утрату, горе. Ранее я подчёркивала стирание Супер-эго, когда Идеал Я смешивается с объектом или с благотворным окружением. Так же как (речь не идёт о структурировании в делирии) отношение к реальности обычно остаётся воспринимаемым и принимаемым, мы можем предположить, что существует инвестирование определённого, латентно поддерживаемого внутреннего объекта, на боковом пути, отдельном от систем, которые приводят ко вторичному сознательному логическому мышлению. Под действием некоторых восприятий либо некоего аффективного переживания этот объект внезапно оказывается бодрым и ликующим. Давнее латентное желание, связанное с горем и с насильственным отказом от всемогущества, создаёт и поддерживает таким образом внутреннее напряжение, обусловливающее повышенную чувствительность к некоторым внешним факторам. Если механизм, о котором мы рассуждаем, сродни механизму перверсии, то это вовсе не случайно, и мы уже неоднократно упоминали, говоря о влюблённых, а также о мистиках, тот механизм, который Кристиан Давид описал как «аффективную перверсию».
Но наша гипотеза об этом побочном отдельном пути порождает и ещё одно предположение: может быть, эта способность формируется при помощи механизмов, которые успешно компенсировали первичную депрессивную структуру. Действительно, мы можем предположить, что в связи с травмами, повлекшими за собой аффекты утраты или горя (самые банальные и часто встречающиеся ситуации), эти субъекты могли довольно рано обзавестись (и, вероятно, в этом заключается их оригинальность) ментальными возможностями, необходимыми для создания нарциссической основы в форме внутреннего объекта, который есть не что иное как целевая точка, та точка, к которой было направлено регрессивное движение, при этом оно вновь и вновь намечало канву для установления фиксации (канву, самые давние виды которой можно уподобить мнестическим следам, а самые новые виды – воспоминаниям). Этот регрессивный путь задействует пассивность и зависимость, поддерживая способность порвать (самим своим движением назад, ниже анальных характеристик времени) объективную продолжительность, на смену которой придут характеристики субъективного времени.
Таким образом, счастье можно рассматривать как оборотную сторону, изнанку первоначального горя, обретение утраченного первичного объекта и всех остальных, утраченных позднее, включая, в конечном счёте, и эдиповский объект. Горе, самая жестокая утрата – это события, вызывающие регредиентную защиту, и этим можно объяснить тот факт, что зачастую горе готовит ложе для любви (I) или для веры, что, в сущности, одно и то же.
«Мы знаем, как человек использует деятельность своего воображения, чтобы удовлетворить те из своих желаний, которые подвергаются фрустрации в реальности. Так его воображение восстало против персонифицированной констатации в мифе о Мойрах, и он создал другой миф, производный от мифа о Мойрах, в котором богиня Смерти заменена на богиню Любви или на человеческие фигуры, её напоминающие».
Маниакальный аспект счастья (маниакальный в малой степени, но это нюанс, без которого оно редко обходится), его ликующий аспект, который отрицает, хотя и не забывает о его значимости в объективной реальности, проявляется и в этом тоже:
«Одно из счастливых, очень счастливых воспоминаний о моём детстве таково, рассказывает пациентка: утром, за завтраком, я сижу за столом между дядей и тётей, которые пригласили меня к себе на каникулы, я пью кофе с молоком из большой кружки, и так мне хорошо, так тепло рядом с ними… Я счастлива».
Ассоциации, которые сразу же появились, касались недавней гибели её родителей в результате несчастного случая (следует добавить, что в тот день на мне, объекте трансфера, была одежда цвета «кофе с молоком»).
(I) «Мы встретились в бедности,
После первых миражей и горьких слёз,
среди ложных шагов, тишины, молвы,
утверждавших наше право на смертельные испытания.
Каждый в своей пустыне, возможно, видит
в головокружении желание однажды ощутить переполнение.
Мы узнали друг друга. Мир открылся…
в громком бормотании, где обсуждалось
всё прежнее счастье, разрушенное под новыми взглядами».
Андре Френо, Свет любви.
Герой романа А. Пьейра де Мандьярга, в определённый момент осознав своё горе и отчаяние, сумел прожить несколько дней «во времени, на какой-то срок отделённом от общего существования», за счёт совместного использования агрессии, вызванной потерей объекта, и либидинальной коэкситации, связанной с душевной болью.
Ромен Роллан (который, как мы уже видели, привык к экзальтирующим состояниям) даёт нам иллюстрацию тесной связи между аффектами горя и созданием особенно живых внутренних объектов.
«Вот одно из таких “озарений”… Мне пять лет, у меня есть сестрёнка, на два года младше меня… мальчики ссорятся и визжат. Я не самый сильный, меня не хотят принимать в игру, я ворчу, я хнычу, я инстинктивно припадаю к ногам девочки… уткнувшись носом в её юбку, я скулю, перебирая в руках песок. А она нежно гладит ручонкой мои волосы и говорит: “бедный мой ляля…” Слёзы мои высохли. Не знаю, что со мной случилось. Подняв глаза, я увидел её лицо с выражением грустной меланхолии. Вот и всё. Минуту спустя, я уже об этом забыл. Но я думал об этом всю свою жизнь… Я был пронзён насквозь. На меня снизошло озарение откуда-то сверху, не от неё… Однажды ночью она умерла от ангины. Я вижу только закрытый гроб и прядь светлых волос, отрезанную матерью, и вижу суровую мать, которая рыдает, кричит и не хочет, чтобы её уносили… Вид маленькой девочки, которая сидит на пляже, и ощущения от прикосновения её руки, её голос, её взгляд до сих пор не покидают меня… Не проходит ни одного вечера, чтобы я, засыпая, не делился с ней какой-нибудь из моих мыслей, с трудом объясняя, что я имею в виду».
Почти те же слова он использует и позднее, чтобы описать подобное состояние, которое он испытал много лет спустя в связи со смертью очень дорогой ему подруги, Мальвиды фон Мейенсбург:
«Подруга, единственная подруга, ушла. Это вовсе не значит, что она меня покинула, ведь друг может покинуть подругу лишь в том случае, если на это соглашается его сердце. Так что она останется со мной на всю жизнь. И в тот момент, когда я пишу эти строки (а в это время перед нами уже пожилой человек), она следит за моими движениями, сидя в изножья моей кровати, повернув голову, в задумчивости глядя на меня серьёзными верными глазами».
Возможность перемещения либидинального инвестирования исчезнувшего объекта во внутренний аутоэротический объект компенсирует потерю объекта возрастанием нарциссизма.
Таким образом, способность быть счастливым, возможно, кроется в компонентах, расположенных на некоей идеальной линии, прочерченной между маниакально-депрессивной структурой и первертной структурой, и никогда не смешивается ни с одной из них, так как маниакально-депрессивного механизма удаётся избегать за счёт своевременного включения первертного механизма…
Однако, как мы уже заметили, перемены в отношении к временным категориям – это ещё не всё: они сопровождаются переменами в ощущении границ Я, полноты (которая уничтожает кастрацию), что соответствует воссоединению, объединению с чем-то или с кем-то, что (кто) становится в таком случае добавленным, присоединённым к Я в новых границах, чем и объясняется тот факт, что совокупность объективной внешней реальности оказывается как будто исключённой (воспринимаемой, осознаваемой, но дезинвестируемой).
Всё происходит так, будто бы становление счастливого Я (по образу Я-удовольствия в раннем возрасте) требует сортировки, соединяя как будто в некое внутреннее ядро всё, что содействует полноте, и исключая, как будто выбрасывая вовне всё то, что могло бы идти с ней вразрез. Бела Грюнберже определяет нарциссическую полноту как восстановление единства содержания и формы (которое, по её словам, первоначально переживается ребёнком в утробе матери).
И, пожалуй, это обстоятельство может привести нас на более подходящий путь для того, чтобы обозначить место того генетического момента, где находится точка закрепления фиксации, на которую мы намекаем, и которая будет служить маячком, прокладывая русло преференциальной регрессии. Этот момент вполне может находиться во временном месте (но мы должны представлять себе это место как результат некоего раскачивания во времени, спереди назад, сзади вперёд и т. п.), в том же самом месте, где, исходя из аффективных категорий удовольствия и неудовольствия, до тех пор смешанных с категориями «внутри» и «снаружи», будут различаться Я и не-Я, Я и объект. В тот самый момент, когда объект, признаваемый таковым, и поскольку он признаётся таковым, углубляет место его отсутствия.
Разумеется, речь идёт не столько о возврате в состояние абсолютной полноты (в пережитой реальности она никогда не могла быть абсолютной), сколько о том, чтобы при помощи регрессии актуализировать, реализовать фантазию апрэ-ку об этой полноте. «Фантазия о мифическом времени…», согласно меткому выражению Д. Брауншвейг.
Следующее время характеризуется проекцией на объект, когда таковой не существует, на отсутствующий объект, на всякую нехватку, на всякую потерю, дискомфорт, лучшим средством от которого является воображаемое возвращение путём фантазии к смешению предыдущего периода. Такая регредиентная реконструкция возможна в том случае, когда определённое количество врождённых элементов и некоторые факторы из сферы отношений (в первую очередь с матерью), присоединившиеся к ним, сделали возможным развитие механизмов, позволяющих противостоять фрустрации посредством воображения. Состояние, которое мы назвали «материнским счастьем», чтобы обозначить аффективные переживания матери в первоначальном двуединстве, пожалуй, оказывает благотворное влияние на организационные возможности детской фантазии. Потерянный рай – это рай для двоих, это мир, где есть «я с другим человеком», по выражению Ф. Паша. Счастье, в котором пребывает мать, находясь в контакте со своим грудничком и смотря на него (хотя другим такое счастье кажется утомительным), связано с возникновением у неё ассоциативных ощущений, по большей части предсознательного или бессознательного характера. Можно предположить, что регрессивная коммуникация в двуединстве даёт ребёнку возможность пережить некоторые аффективные состояния от контакта с другим человеком, те состояния, которые он сможет вновь оживить при помощи воображения в периоды недостатка (если некое количество врождённых структурных характеристик облегчит ему продвижение по этому пути, и если на нём он в дальнейшем не столкнётся с препятствиями в виде сомато-психоаффективных событий).