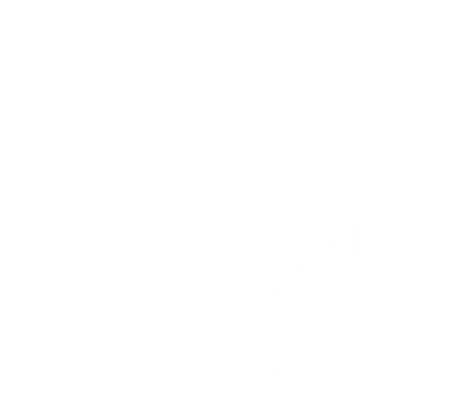Смерть в глазах. Человек, слепой от рождения, обретает зрение: случай С. Б.
- Смерть в глазах
- ОТ СПОСОБНОСТИ ВИДЕТЬ КАК ИДЕАЛА К УХОДУ В МЕЛАНХОЛИЮ
- ТАКТИЛЬНОЕ / ВИЗУАЛЬНОЕ РАЗРУШЕНИЕ
- ЗЕРКАЛО КАК МАТЕРИАЛЬНОЕ СРЕДСТВО, «ОТРАЖАЮЩИЙ ЦИФЕРБЛАТ И ЭКРАН», ПОМОГАЮЩИЙ СПРАВИТЬСЯ С ОТСУТСТВИЕМ ВИЗУАЛЬНОЙ ОБОЛОЧКИ Я
- ОПЕРАТУАРНОЕ ВИЗУАЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ, ЛИШЁННОЕ ГАЛЛЮЦИНАТОРНОГО ЭЛЕМЕНТА И ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ОВЛАДЕНИЕ
- ЛУНА, ПРЕКРАСНЫЙ ТОРТ!
- ВИЗУАЛЬНАЯ ОБОЛОЧКА Я
- «СХЕМА» ОПЕРАТУАРНОГО ВОСПРИЯТИЯ
- ВИДЕНИЕ И СОМА
- РЕГРЕДИЕНТНЫЙ ПУТЬ, ХРАНИТЕЛЬ ЖИЗНИ, ЗАДЕЙСТВОВАННЫЙ В ВИЗУАЛЬНОМ ВОСПРИЯТИИ
- КОНЧИНА С. Б.: ТРИУМФ ДЕЗОБЪЕКТИВИРУЮЩЕЙ ФУНКЦИИ
Смерть в глазах
ГИ ЛАВАЛЛЕ
Смерть в глазах
Человек, слепой от рождения, обретает зрение: случай С. Б.
Посвящается Дидье Анзьё и Андре Грину
Каким образом психическая и соматическая жизнь сопрягается со способностью видеть этот мир? Случай С. Б., слепого от рождения, который однажды прозрел и погрузился в «смертную тоску», заставляет задуматься над этим вопросом и помогает найти на него ответ.
Трагическая судьба С. Б. и пережитые им невзгоды представляют большой интерес ещё и потому, что его исцеление – пример абсолютного успеха с технической точки зрения, а также потому, что, будучи слепым, он не отличался какими-либо психотическими или аутистическими чертами и не страдал неврологическими нарушениями.
Так какова же была природа психических страданий С. Б., как следует их понимать?
Зная о том, какие средства применял сам С. Б. для преодоления своей депрессии, мы обнаруживаем необходимость «визуальной оболочки Я», охраняющей психическую и соматическую жизнь.
Случай С. Б. описан в статье Р. Л. Грегори и Дж. Г. Валласа («Brain and perception laboratory», Department of Anatomy, Bristol, Великобритания). Оба эти исследователя не только опрашивали С. Б., но и наблюдали за ним, неоднократно тестировали его. Чтобы без промедления ввести читателя в курс дела, я для начала процитирую часть того комментария, которым отозвался на это наблюдение Андре Грин:
«Порой в клинической практике перед нами разворачивается картина, состоящая из замечательного обилия фактов, и в очередной раз наводит нас на размышления, основу которых составляет опыт, способный дать для них больше пищи, чем несколько лет экспериментальной работы.
Я хотел бы рассказать историю сапожника, утратившего зрение в возрасте 10 месяцев, выходца из среды мелкой буржуазии, который очень любил своё ремесло и выполнял работу практически безупречно, хотя и был слеп. Он никогда не терял надежды на то, что научный прогресс однажды подарит ему возможность вновь видеть этот мир, и на протяжении трёх десятков лет регулярно консультировался у медиков, уповая на оперативное вмешательство (пересадку роговицы). При этом он отличался добродушием, открытостью и весёлым нравом. Неоднократно его просьбы об операции отвергались из-за опасений за её результат, и только в возрасте 52 лет он получил разрешение на хирургическое вмешательство. Наблюдение за этим человеком, предпринятое Грегори и Валласом, примечательно сразу с нескольких точек зрения, но мы ограничимся сейчас лишь теми его аспектами, которые имеют отношение к интересующей нас тематике. Обращает на себя внимание тот факт, что в ходе общения на сорок восьмой день после операции, когда наконец осуществилось его желание обрести зрение, он не выражал никакого удивления от того, что видит мир. Можно понять, что вернувшаяся способность видеть всё вокруг не устранила для него те черты, которыми отличался его мир, пока он был слепым. Когда его попросили нарисовать какие-нибудь предметы, он сумел правильно изобразить графическими средствами лишь те элементы, которые были доступны тактильному восприятию незрячего. Обретение новой способности, то есть зрения, обусловило необходимость перенести его опыт, связанный с осязанием. Читать он так и не научился.
На протяжении шести недель он пребывал в состоянии эйфории, но вскоре его настроение изменилось. Он стал мрачен, ему не нравилась внешность его жены – на неё, как, впрочем, и на собственное лицо он смотрел безо всякого удовольствия. В конечном счёте однажды он признался, что увиденный мир разочаровал его, оказавшись совсем не таким, как в его воображении. Он подмечал каждую деталь, свидетельствующую о несовершенстве или упадке, у него развилась фобия всего грязного. В час заката он испытывал беспокойство. Хуже того: прозрев, он оказался не в состоянии выполнять те повседневные задачи, с которыми успешно справлялся, будучи слепым, и стал чувствовать себя ущербным на фоне зрячих. Находясь в том доме, где он жил, по ночам он садился перед огромным зеркалом, спиной к своим друзьям. Постепенно им овладела депрессия, и спустя два с половиной года после операции он скончался. Впоследствии хирурги предположили, что пересадка роговицы была ошибкой. (…)
Осталась загадкой его тяга к зеркалам при том, что он находил малоприятным созерцаемое в них отражение собственной персоны; зрелище этого мира можно вытерпеть лишь при том условии, что поворачиваешься к нему спиной и смотришь на его отражение; а смотрение в зеркало, хотя оно и не даёт никакой новой информации, – это попытка отвернуться от реальности».
В этом комментарии Андре Грина (1993) изложена самая суть, однако в дальнейшем я добавлю к нему ряд немаловажных деталей.
ОТ СПОСОБНОСТИ ВИДЕТЬ КАК ИДЕАЛА К УХОДУ В МЕЛАНХОЛИЮ
Так что же ожидал увидеть С. Б., ослепший в возрасте 10 месяцев, который всегда ощущал свет и на протяжении тридцати лет боролся за право вновь видеть мир? Почему Грегори считает, что С. Б. отождествлял прозрение с «попаданием в рай»?
Вероятно, в его надежде не обошлось без кровосмесительной фантазии «всевидения», не ведающего ни ограничений, ни запретов. Быть может, он представлял себе способность видеть как «всеобъемлющее восприятие», подобно тому, как мир звуков помог ему проникнуть в этот мир и охватить его со всех сторон, не ограничиваясь какой-либо одной точкой зрения? Или он думал, что сможет формировать визуальные образы и получать их в ответ, так же, как он издавал звуки при помощи своего голоса и слышал их своими ушами? Полагал ли он, что увидит свою надежду в лицо? А может быть, он думал, что перед ним вновь предстанет взгляд его матери, составляющий основу для формирования идеального Я и «первичной любви» (Балинт), который он ловил на протяжении первых десяти месяцев своей жизни?
Сразу после операции, пока С. Б. находился в центре внимания журналистов и учёных (Грегори и Валласа), он пребывал в эйфории. Можно сказать, что в этот период он был объектом устремлённого на него взгляда особого рода, который на фантазматическом уровне служил проявлением влюблённой самооценки. Его взгляд призывал к себе другой взгляд и встречался с ним. Когда же «взгляд мира» отвернулся от его глаз, он впал в депрессию. В фантазматическом смысле взгляд матери оказался утраченным вторично.
Глядя на себя в зеркало, С. Б., возможно, надеялся увидеть прелестное дитя, следы которого остались в идеальном Я. Нетрудно представить себе его разочарование: поскольку его идеальное Я не интегрировалось в визуальный регистр, С. Б. видел себя в зеркале как не представляющего никакой ценности «знакомого чужака». С фантазматической точки зрения, на кого смотрит С. Б., глядя на себя в зеркало? «Ни на кого», – ответил бы, пожалуй, наш сапожник, а я сказал бы: «на умершую визуальную мать».
Когда он обрёл зрение, не подвергшаяся психизации реальность, залитая светом бездна заняла место встречи с его первичным объектом, на которую он надеялся, сам того не осознавая. Затем, мало-помалу, вместо ожидаемого чудесного объекта сформируется визуально неведомый фантазматический объект, без взгляда на его ребёнка. Когда С. Б. увидел лицо другого человека, вместо «загадочных означающих», «соблазнителей» человеческого лица возникла тревожная странность чего-то «знакомого» по тактильным и слуховым ощущениям, которое внезапно становится «чужаком» в визуальном плане. При разговоре С. Б. не стремился смотреть на своего собеседника. По его мнению, лицо другого человека не было “easy object”. Людей он узнавал не по лицам, а по голосам. Что касается его собственного лица, оно было лишено выразительности и не выдавало реакции на проявления аффектов на лицах других людей.
Таким образом, выражения лиц других людей ничего для него не значили; более того: впервые увидев лицо любимой женщины, он более не мог любить её – перед нами дезобъективирующая функция (А. Грин).
Депрессию С. Б. можно расценивать как болезнь идеальности. Возможно, что, прозрев, С. Б. надеялся восстановить на фантазматическом уровне идеал матери, связанный с манией величия, который инвалид ранее серьёзно ранил? Так или иначе, зрение было его идеалом. Но как только он получил то, чего хотел больше всего на свете, ему не удалось связать этот идеал с Я. Постепенно видимый мир всё больше разочаровывал его, и он стал уделять повышенное внимание деталям, которые свидетельствовали об упадке или о несовершенстве, таким как трещины в слое краски, покрывавшем стену. В этом можно усмотреть характерный признак инверсии, сопровождающей утрату желанного идеала: то, что должно было наполнять субъекта, скрывается и превращается в источник интенсивного преследования.
Этой депрессии присущ меланхолический оттенок: он выглядел обеспокоенным во время захода солнца. Свет – это фантазматическая опора визуальной идеальности, вектор надежды: он ассоциируется с солнечным теплом, а конкретно для С. Б. – с лицом матери, которое он замечал на протяжении первых десяти месяцев своей жизни. Но случилось так, что свет был возвращён ему без мира визуальных форм, бесконечная сложность которых не ведает границ. При этом одна лишь темнота, которая отражает страх и желание вновь стать слепым, ограничивает визуальный мир! В таком случае, оказавшись перед необходимостью идентифицировать свои потерянные «объекты без взгляда» и «Я-слепое», также утраченное, и лишившись всяких надежд, С. Б. не мог избежать своеобразного ухода в себя с меланхолической окраской.
Так что же ожидал увидеть С. Б., ослепший в возрасте 10 месяцев, который всегда ощущал свет и на протяжении тридцати лет боролся за право вновь видеть мир? Почему Грегори считает, что С. Б. отождествлял прозрение с «попаданием в рай»?
Вероятно, в его надежде не обошлось без кровосмесительной фантазии «всевидения», не ведающего ни ограничений, ни запретов. Быть может, он представлял себе способность видеть как «всеобъемлющее восприятие», подобно тому, как мир звуков помог ему проникнуть в этот мир и охватить его со всех сторон, не ограничиваясь какой-либо одной точкой зрения? Или он думал, что сможет формировать визуальные образы и получать их в ответ, так же, как он издавал звуки при помощи своего голоса и слышал их своими ушами? Полагал ли он, что увидит свою надежду в лицо? А может быть, он думал, что перед ним вновь предстанет взгляд его матери, составляющий основу для формирования идеального Я и «первичной любви» (Балинт), который он ловил на протяжении первых десяти месяцев своей жизни?
Сразу после операции, пока С. Б. находился в центре внимания журналистов и учёных (Грегори и Валласа), он пребывал в эйфории. Можно сказать, что в этот период он был объектом устремлённого на него взгляда особого рода, который на фантазматическом уровне служил проявлением влюблённой самооценки. Его взгляд призывал к себе другой взгляд и встречался с ним. Когда же «взгляд мира» отвернулся от его глаз, он впал в депрессию. В фантазматическом смысле взгляд матери оказался утраченным вторично.
Глядя на себя в зеркало, С. Б., возможно, надеялся увидеть прелестное дитя, следы которого остались в идеальном Я. Нетрудно представить себе его разочарование: поскольку его идеальное Я не интегрировалось в визуальный регистр, С. Б. видел себя в зеркале как не представляющего никакой ценности «знакомого чужака». С фантазматической точки зрения, на кого смотрит С. Б., глядя на себя в зеркало? «Ни на кого», – ответил бы, пожалуй, наш сапожник, а я сказал бы: «на умершую визуальную мать».
Когда он обрёл зрение, не подвергшаяся психизации реальность, залитая светом бездна заняла место встречи с его первичным объектом, на которую он надеялся, сам того не осознавая. Затем, мало-помалу, вместо ожидаемого чудесного объекта сформируется визуально неведомый фантазматический объект, без взгляда на его ребёнка. Когда С. Б. увидел лицо другого человека, вместо «загадочных означающих», «соблазнителей» человеческого лица возникла тревожная странность чего-то «знакомого» по тактильным и слуховым ощущениям, которое внезапно становится «чужаком» в визуальном плане. При разговоре С. Б. не стремился смотреть на своего собеседника. По его мнению, лицо другого человека не было “easy object”. Людей он узнавал не по лицам, а по голосам. Что касается его собственного лица, оно было лишено выразительности и не выдавало реакции на проявления аффектов на лицах других людей.
Таким образом, выражения лиц других людей ничего для него не значили; более того: впервые увидев лицо любимой женщины, он более не мог любить её – перед нами дезобъективирующая функция (А. Грин).
Депрессию С. Б. можно расценивать как болезнь идеальности. Возможно, что, прозрев, С. Б. надеялся восстановить на фантазматическом уровне идеал матери, связанный с манией величия, который инвалид ранее серьёзно ранил? Так или иначе, зрение было его идеалом. Но как только он получил то, чего хотел больше всего на свете, ему не удалось связать этот идеал с Я. Постепенно видимый мир всё больше разочаровывал его, и он стал уделять повышенное внимание деталям, которые свидетельствовали об упадке или о несовершенстве, таким как трещины в слое краски, покрывавшем стену. В этом можно усмотреть характерный признак инверсии, сопровождающей утрату желанного идеала: то, что должно было наполнять субъекта, скрывается и превращается в источник интенсивного преследования.
Этой депрессии присущ меланхолический оттенок: он выглядел обеспокоенным во время захода солнца. Свет – это фантазматическая опора визуальной идеальности, вектор надежды: он ассоциируется с солнечным теплом, а конкретно для С. Б. – с лицом матери, которое он замечал на протяжении первых десяти месяцев своей жизни. Но случилось так, что свет был возвращён ему без мира визуальных форм, бесконечная сложность которых не ведает границ. При этом одна лишь темнота, которая отражает страх и желание вновь стать слепым, ограничивает визуальный мир! В таком случае, оказавшись перед необходимостью идентифицировать свои потерянные «объекты без взгляда» и «Я-слепое», также утраченное, и лишившись всяких надежд, С. Б. не мог избежать своеобразного ухода в себя с меланхолической окраской.
ТАКТИЛЬНОЕ / ВИЗУАЛЬНОЕ РАЗРУШЕНИЕ
А. Эренцвейг рассматривает депрессию С. Б. как аутистический уход в себя. И в самом деле, этот человек оказался также во власти того, что Д. Мельцер называл аутистическим разрушением. С того момента, как С. Б. обрёл способность видеть, он жил в двух мирах: с одной стороны – тактильный и кинестетический образный мир, построенный им в период слепоты, опора для связи объектных и нарциссических инвестиций, его чувства реальности, его чувства знакомства с реальностью; с другой стороны – не подвергшийся психизации визуальный мир. В ходе «нормального» развития ребёнка тактильные и визуальные ощущения служат поддержкой друг другу, а в данном случае этого не происходило, и эти два мира оказались несовместимы один с другим. Расположившееся на их стыке Я вынуждено было выбирать между двумя формами реальности, которые невозможно сопрячь друг с другом, оно расщепляется по силовым линиям чувственной составляющей. Образуется эквивалент аутистического разрушения.
Обнаружив перед собой сложные и незнакомые визуальные образы, С. Б. оказался не в состоянии напрямую определить свои визуальные восприятия. Облечение в слова и чувство реальности обусловили необходимость сначала создавать образы и репрезентации тактильных вещей. Так, в «музее естественных наук», увидев станок, который мог быть ему знаком ранее, а сейчас стоял за защитным стеклом, С. Б. ничего не сказал и стал проявлять признаки беспокойства. В конце концов, когда стекло сняли, он смог назвать различные части устройства, но только прикасаясь к ним с закрытыми глазами. Потом он сказал: «Теперь, когда я их потрогал, я могу их увидеть», принялся называть различные детали станка, глядя на них, но не прикасаясь к ним, и объяснять, как они должны работать.
Следовательно, С. Б. нужно было сначала потрогать предмет, не видя его, а затем увидеть, не прикасаясь. Он не мог трогать и видеть одновременно: для него это было волнующее переживание аутизирующего разрушения. Стоит отметить, что согласованная взаимосвязь прикосновения и видения в его случае обеспечивалась за счёт речи. Ему нужно было сначала потрогать, чтобы назвать, потом снова назвать (идентичность мысли, слово остаётся всё тем же) и наконец получить одновременный доступ к психизированному видению.
В самом деле, имевшиеся у С. Б. репрезентации – это репрезентации тактильных и кинестетических вещей, пластичных образов; как же он сумел бы напрямую связать их с внешним, «внетелесным» визуальным образом, который при сравнении порождает ощущение «знакомого чужака», тревожной чуждости? Нарциссически-объектное расплетение в визуальном регистре и тактильно-визуальное аутистическое разрушение почти в экспериментальном ключе вызывают психотическое состояние! Ведь речь идёт не только о проблеме распознавания визуальных форм, но и о проблеме инвестирования этих форм в нарциссическое либидо. Если для нашего сапожника мир тактильных образов – это мир «только внутри – также и снаружи» (С. и С. Ботелла), то визуальный мир, который он для себя открывает, это лишь «только снаружи».
ЗЕРКАЛО КАК МАТЕРИАЛЬНОЕ СРЕДСТВО, «ОТРАЖАЮЩИЙ ЦИФЕРБЛАТ И ЭКРАН», ПОМОГАЮЩИЙ СПРАВИТЬСЯ С ОТСУТСТВИЕМ ВИЗУАЛЬНОЙ ОБОЛОЧКИ Я
Слепой человек никогда не имел возможности на чувственном уровне познать аналог антинарциссической силы видения. Тактильный и кинестетический мир изобилует «удовольствиями органа», он легко обеспечивает ответное отражение: «я чувствую прикосновение там, где я прикасаюсь». Точно так же, хотя мир звуков действительно бестелесен, звучание собственного голоса даёт незрячему звуковое удовольствие органа и ответное отражение через орган слуха. Ничего подобного нельзя сказать о визуальном мире, который он обрёл в возрасте 52 лет. Визуальный мир расположен за пределами его глаза, он не доставляет никакого удовольствия органу, так что из-за отсутствия экрана и сдерживающего контура инвестирование внешнего мира не возвращается вовнутрь (1993, 1994). Таким образом, на уровне чувств, на уровне либидо Я сталкивается с ужасающей утечкой нарциссизма, воспрепятствовать которой ничто не в силах! Ничто, если не считать такого материального средства, как«отражающий циферблат и экран», которое создало бы для нашего сапожника аналог сдерживающего контура и психического экрана той визуальной оболочки Я, которой у него нет. И С. Б. вскоре придумал такое средство!
Несмотря на то, что созерцание собственной наружности не доставляло С. Б. удовольствия, он имел обыкновение сидеть спиной к своим друзьям и лицом к большому зеркалу в том доме, где он ночевал. «He would prefer to watch reality reflected in a mirror, than face it directly» (Грегори и Валлас); «этот мир выглядит терпимо лишь в том случае, если повернуться к нему спиной и наблюдать за его отражением», отмечает А. Грин. И в самом деле, следует отметить, что это материальное средство выступает в качестве аналога визуальной психической оболочки.
Прежде всего, нужно сказать, что, когда С. Б. смотрел в зеркало, его Я уже не выталкивалось наружу, поскольку он получал возможность видеть в зеркале себя и одновременно видеть окружающий мир. Связывая таким невероятным образом свои объектные инвестиции с инвестициями собственного тела, С. Б. тем самым сдерживал утечку нарциссизма. Как я уже неоднократно отмечал, что для видения мира необходима способность «видеть себя» метафорически, изнутри! Если человек не может метафорически «видеть себя» в мире, то ему остаётся лишь «видеть себя видящим» в зеркале. Но не свой собственный образ созерцал С. Б. в зеркале, а окружающий мир и своих друзей; действительно, мы знаем, что ему не нравилось смотреть на самого себя в зеркалах. Сидя перед зеркалом, сапожник сосредоточивал своё внимание на чём-то, но не на самом себе, негативируя своё присутствие и делая его таким образом более терпимым. Пытался ли он достичь негативного галлюцинирования своего визуального присутствия, чтобы интериоризировать его? Можно предположить, что, переходя от восприятия собственной внешности к её негативации в зеркале, он пытался связать «внетелесное» видение своего тела снаружи с телесным ощущением существования в своей Я-коже (Д. Анзьё, 1985). С другой стороны, присутствие его друзей в зеркальном отражении, вероятно, позволяло ему вспомнить и об обязательном присутствии-отсутствии его матери. Ведь очевидно, что в сцене на «стадии зеркала» (Лакан) отчаянно недоставало взгляда матери где-то неподалёку.
Обретённое зрение открыло перед С. Б. образное пространство, «выходившее за пределы» его тактильного опыта. Детальная картина, медленно формировавшаяся у него за счёт прикосновений рукой к предметам, уступила место зрительным образам, в которых всё предстаёт в комплексе, моментально, так что остаётся лишь в изумлении воскликнуть: «Видно слишком много!». В данном случае зеркало – это поверхность, обведённая рамой, что позволяет очертить границы воспринимаемого пространства и осуществлять избирательное его инвестирование. Смотря на мир через зеркало, С.Б. уже не чувствовал себя переполненным от того, что «видно слишком много» в сравнении с его способностью рассекать реальность и придавать ей то или иное значение.
Но и это ещё не всё: зеркало – это одновременно визуальный и тактильный экран! Для нашего сапожника размещение мира на плоскости в зеркале, которое поддаётся констатированию через прикосновение к его поверхности, формирует самую настоящую «виртуальную кожу» (1994), тактильный эквивалент экрана, создаваемого через негативную визуальную галлюцинацию матери. Когда мы подходим к зеркалу, чтобы потрогать то, что мы в нём видим, мы прикасаемся к стеклу, отделяющему нас от мира, который мы воспринимаем через это зеркало. Зеркало играет роль экрана, контактной поверхности, через которую человек соприкасается с миром, видимым через зеркало; оно становится препятствием для избыточного возбуждения, контактным барьером. Слепцу была знакома негативная тактильная галлюцинация его матери, состоящая из границы при кожном контакте. Зеркало, которое можно потрогать, и которое отделяет его от его же собственной отражённой руки, оказывается, таким образом, «мостом» между тактильной и визуальной сдерживающей негативацией. С одной стороны, зеркало изображает переворачивание (в данном случае несформированное) скопического влечения, оно изображает рефлексивную сдерживающую петлю, которая обеспечивает возвращение проекции. Таким образом, благодаря такой уловке как использование этого предмета, «отражающего циферблата и экрана», С. Б. пытался создать в реальности ненадёжный аналог «визуальной оболочки» для своего Я (1993, 1994).
ОПЕРАТУАРНОЕ ВИЗУАЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ, ЛИШЁННОЕ ГАЛЛЮЦИНАТОРНОГО ЭЛЕМЕНТА И ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ОВЛАДЕНИЕ
Всякий раз видимый мир представал перед С. Б. разным, подвижным. Вместе с тем, хотя окружающий мир постоянно выдаёт различные образы одних и тех же объектов, само Я оказывается под угрозой в своей экзистенциальной непрерывности: так выглядит дезобъективирующая функция. Так, спустя полгода после хирургического вмешательства он с изумлением обнаружил, как сильно менялись формы предметов, когда он обходил их с разных сторон. «Порой он смотрел на уличный фонарь, ходил вокруг него, стоял и разглядывал его под разными углами, пытаясь понять, почему он кажется разным и, в то же время, одним и тем же» (Грегори и Валлас). Появившееся новое восприятие захватывало всю энергию его Я, столкнувшегося с миром, где восприятию не свойственна статичность, который не мог активно находиться под его властью. А между тем инвестирование в овладение организует переворачивание влечений «пассивное – активное» на фоне пассивно получаемого стимула, оно способствует поддержанию первичного процесса и позволяет использовать его в работе системы распознавания предсказуемых и стабильных форм. Это инвестирование в овладение, дополненное комплексной структурой визуальной оболочки, не даёт восприятиям возможности действовать как движущиеся, галлюцинируемые образы в сновидениях. Овладение – это подвергшееся психизации производное от детских переживаний хватания, удержания манипулирования и иммобилизации предметов при помощи рук. Следовательно, видение под влиянием овладения предполагает отличное взаимодействие между тактильным и визуальным компонентами, что позволяет держать видимые вещи в «психической руке».
Так значит, С. Б. угрожали галлюцинации? Перцептивное возникновение – да, но не галлюцинации с сопровождающим их изоморфическим обретением Я с «той же вещью». Однако эта позиция нуждается в некотором уточнении. Дело в том, что, вне зависимости от мира форм, свет сам по себе обладает галлюцинаторным качеством. На протяжении первых десяти месяцев своей жизни С. Б. видел свет и цвета. Повторное их обретение в возрасте 52 лет представляло собой квази-галлюцинацию желания, настоящее галлюцинируемое обретение «той же вещи». Свет, исходящий из своего источника, был для С. Б., как и для каждого из нас, «соском» всякой видимости, «символом матери» (P. Lacombe, RFP, 1, 1970). Бездна света, постоянно возникавшая в глазах С. Б. в ходе его перцептивной деятельности, выступала, таким образом, в качестве настоящей бессодержательной галлюцинации.
Именно повторным обретением чистого света вместе с первичным объектом можно объяснить эйфорию С. Б., получившего возможность видеть этот мир. Последовавшая за этим депрессия свидетельствует о неспособности С. Б. к либидинальному инвестированию визуальных форм, создаваемых светом. У С. Б. возникали пустые галлюцинации, не имевшие либидинального наполнения.
Это явление кажется мне очень похожим на галлюцинаторный процесс в оператуарной жизни, описанный М. Фэном (1965). Галлюцинацию непременно сопровождает смешение восприятия и репрезентации; между тем С. Б. не располагал визуальными репрезентациями вещей, которые могли бы к нему возвращаться и которые он мог бы связать со своими восприятиями. Таким образом, визуальный галлюцинаторный процесс, привязанный ко всякому восприятию, который обычно разворачивается на базе следов от смешения восприятия и репрезентации, у С. Б., судя по всему, работал вхолостую.
С. Б. столкнулся с реальностью, не поддававшейся психизации и физически навязанной ему в результате операции. То есть и без того избыточное присутствие визуального мира усиливалось этим бессодержательным галлюцинаторным процессом, старт которому дало возвращение в его жизнь света. Галлюцинации С. Б. можно уподобить тому, что увидел бы зритель в кинотеатре, если бы он уселся напротив пучка света, испускаемого проектором, и отчаянно пытался бы разглядеть в нём картинки вместо того, чтобы обернуться и увидеть их на экране у себя за спиной. Эта болезненно «ослепительная» реальность свидетельствовала о «душевном расстройстве С. Б. (П.К. Ракамье) как о данности и требовала безоговорочного присоединения к его Я. Таким образом, его галлюцинаторный процесс не оказал либидинального влияния на его зрение.
Здесь уместно напомнить о том, что я уже говорил ранее (1995). Обычно доступ к образности представляет собой смесь, особую для каждого типа личности и состоящую из трёх дополнительных вариантов инвестирования:
— оператуарный вариант: фактическая констатация образов есть не свободное от тавтологии заявление: «это так, потому что это так», она сближается с банальностью. Это доминирующий вариант в случае С. Б.;
— галлюцинаторный вариант: в возникающих образах Я обретает то, что оно находит, оно трансформирует изображаемое, чтобы достичь его изоморфизма относительно себя самого: «это изображается, потому что я вижу это в галлюцинации». Такой вариант был недоступен для С. Б.;
— вариант овладения: Я пытается зафиксировать изображаемое, оно старается всегда воспроизводить его с полной идентичностью, оно «фотографирует» его, «держит в руке». При этом образуется постоянство восприятия и «правильность его форм», которых так жестоко недоставало С. Б. «Формальное означающее», о котором пишет Дидье Анзьё, то есть изображение, которое играет ограничительную и сдерживающую роль, на мой взгляд, служит признаком инвестирования такого типа.
В визуальной сфере у С. Б. существовал только первый из этих трёх вариантов инвестирования. Между тем Поль Дени обращает внимание на жизненно важную для Я необходимость связать галлюцинаторное удовлетворение и овладение; в визуальной сфере С. Б. это не удалось. На мой взгляд, психизация восприятия предполагает создание компромиссных формаций между тремя вышеперечисленными элементами; эти «изображения-экраны» (1995), вероятно, оказывают то же самое защитное воздействие на центр восприятий, что и воспоминания-экраны – на один центр репрезентаций.
Такие «изображения-экраны» одновременно и банальны (оператуарны), и поддаются точному воспроизведению (при овладении), и обладают особой чёткостью, живостью (галлюцинаторная составляющая).
С одной стороны, изображения-экраны позволяют закамуфлировать галлюцинаторную реализацию желания видеть, которое должно и далее связывать «визуальное Я» с видимым миром; с другой стороны, они преобразуют необработанную реальность в мир либидинальных визуальных объектов; следовательно, они являются результатом действия «объективирующей функции» (А. Грин).
Известен лишь один случай, лишь один объект – Луна, для которого С. Б. смог создать такое «изображение-экран». Об этом мы сейчас и поговорим.
ЛУНА, ПРЕКРАСНЫЙ ТОРТ!
Отсутствие удивления со стороны С. Б. в ходе познания им визуального мира ясно свидетельствует о «патологии банальности» (Сами Али). Анализ единственного известного нам момента, когда он выразил удивление, позволяет нам в сравнении оценить тот тупик, в котором обычно пребывал С. Б. из-за «оператуарной перцептивной констатации». Это удивление относится к тому моменту, когда он впервые увидел растущую луну (“quarter moon”), а он-то ожидал увидеть нечто напоминающее по форме кусок торта! (“quarter piece of cake”). Благодаря такой «игре форм», ассоциируемой с его «игрой слов», вид растущей луны вызывает удивление, а в качестве приятного дополнения его сопровождает аутоэротическое удовольствие. Игра слов, связывающая первичное со вторичным, это настоящая самостоятельная интерпретация его изо дня в день наблюдаемой неспособности «осознать» то, что он видит, она играет роль инсайта. Игра слов позволяет ему установить предсознательную связь: восприятие – репрезентация вещей – репрезентация слов – аффект. Вновь вступают в действие третичные процессы (А. Грин), которые связывают сознательное и бессознательное, первичный и вторичный процессы, а также, одновременно, внешнее и внутреннее.
Луну невозможно потрогать, это видимый образ, не дающий тактильных ощущений, и в том числе по этой причине она становится визуально реальной! В самом деле, здесь С. Б. не приходится делать выбор между двумя противоречивыми чувственными реальностями. Для незрячего человека тактильное изображение луны уже носит метафорический характер: С. Б. знает, что прикоснуться к луне он не может. Таким образом, тактильное означающее, кусок торта, и визуальное означающее, луна, различные по форме, могут связаться друг с другом в со-чувственном либидинальном движении: они образуют «формальное означающее» (Д. Анзьё, 1987). Расщепление, обычно порождаемое аутистическим разрушением, исчезает!
С. Б. интроецирует визуальную форму луны, ассоциируя её с оральной фантазией доброй материнской груди-кормилицы: луна, какой прекрасный торт!
Кроме того, любопытно отметить, что наш сапожник созерцал луну через окно, и сначала подумал было, что он видит светящееся отражение на стекле. Действительно, нам известно, что С. Б. питал слабость к отражениям, и мы знаем, как он даже использовал зеркала в качестве эквивалентов психического экрана. Следовательно, с фантазматической точки зрения можно сказать, что он созерцал луну через «визуальную кожу» (оконное стекло).
В данном случае галлюцинаторное свойство лунного света тесно ассоциируется с формой луны: как и при нормальной перцептивной деятельности, эту форму сопровождает отдельный «галлюцинаторный элемент», связывающий Я С. Б. и мир в переживании удовлетворения.
В заключение стоит сказать, что, созерцая луну, С. Б. уже не оказывается в тупике оператуарного перцептивного констатирования; может произойти необходимая трансформация стимулирующего сигнала от луны в визуальное означающее луны, обладающее малозаметным галлюцинаторным элементом, на экране взаимодействия. Теперь луна становится для С. Б. «изображением-экраном», инвестируемым в овладение, которое маскирует галлюцинаторную реализацию желания. Благодаря многочисленным предсознательным связям и полисемичному посредничеству речи, луна становится для С. Б. тем же, чем она является для всех: реальным небесным телом, которое можно изучать, и воображаемым объектом, в компании которого так приятно помечтать! Тем самым чувство реальности и реальное в качестве неизвестного формируются вместе! Этот единственный известный нам момент удивления позволяет предположить, что он обычно он переживал глубокий упадок предсознательных связей.
В тот день С. Б. точечно создал визуальную оболочку своего Я.
ВИЗУАЛЬНАЯ ОБОЛОЧКА Я
С. Б. недоставало визуальной оболочки его Я. Сейчас я хотел бы вкратце напомнить о том, что я вкладываю в понятие «визуальной оболочки». Затем я в нескольких словах опишу, имея в виду С. Б., что представляет собой дисфункция визуальной оболочки при оператуарной патологии. В самом начале своего исследования я взял на вооружение концепцию психической оболочки, предложенную Д. Анзьё, чтобы рассказать о психизации видения.
На мой взгляд, визуальная оболочка – это особое пространство «двойного переворачивания влечения», сначала – пассивное / активное, потом – против самого себя. Оболочка принимает раздражитель, исходящий извне, выбрасывает его вовне, трансформирует его вовне на психическом экране и принимает его внутрь как психический материал. Таким образом, визуальная оболочка является носителем объектализирующей функции (А. Грин) в её перцептивных аспектах.
Психический экран – это негативный галлюцинаторный фильтр, полупрозрачная плоскость соприкосновения, место оторванной от реальности связи между физиологическим раздражителем и проецируемыми репрезентациями. В конечном счёте, я пришёл к пониманию этого психологического экрана как плода негативной галлюцинации матери в движении её интериоризации (А. Грин). Таким образом, экран, щит Персея становятся уже не только метафорическими моделями, но приобретают метапсихологический статус. Негативный галлюцинаторный экран поддерживает, фильтрует, ограничивает, тормозит двойное переворачивание, которое в перцептивном плане оказывает такое же отдаляющее воздействие и играет ту же роль «отрицающего принятия», что и вербальное отрицание.
Если быть точным, я выделяю четыре этапа:
— раздражители достигают глаза, они осуществляют «бессознательное сканирование» (A. Ehrenzweig, 1974) и запускают репрезентации;
— репрезентации, должным образом отфильтрованные посредством барьера вытеснения, проецируются на экран соприкосновения;
— наложением проецируемых репрезентаций и тех же самых раздражителей на этот экран выполняется операция «изображающей символизации», на которую оказывает влияние позитивный «галлюцинаторный элемент». Можно сказать, что, если субъект видит мир благодаря этой операции «изображающей символизации», то он также «видит самого себя» внутри, так же, как в своё время он видел себя в лице матери, которое теперь негативно галлюцинируется и составляет экран. С того момента, как Я начинает таким образом «видеть себя» в мире, в метафорическом плане, оно будет производить переворачивание на самого себя пути влечений. И это четвёртый, поистине интроективный этап;
— Я отметило репрезентации своей печатью, своим штампом, оно сделало их понятными, оно может забрать их внутрь, не подвергаясь какой бы то ни было опасности. Я и не-Я обретают таким образом необходимую единосущность. При этом Я заодно обеспечивает себе овладение миром, удовлетворяется своими «изображениями-экранами», устанавливается «перцептивное постоянство» и вступает в действие объективирующая функция.
Путь по траектории, напоминающей букву «S», только что очерченный нами, формирует двойной сдерживающий контур. Первый контур – на репрезентативном полюсе – предполагает бессознательную связь, порождающую проекцию, он преобразует пассивно принимаемый раздражитель в проективную деятельность. Намного сложнее осмыслить второй (внешний!) контур, именно он обеспечивает обращение проекции на самого себя. Этот второй контур не может сформироваться без помощи негативного галлюцинаторного экрана взаимодействия. Благодаря галлюцинаторному характеру этого экрана психическая работа восприятия, которая могла бы происходить «исключительно внутри», осуществляется «также и снаружи». Без экрана проекция происходила бы напрямую на реальность, подчёркивая смешение внутреннего и внешнего в патологической позитивной галлюцинации.
Это метапсихологическое средство даёт возможность представить себе проблематику взаимоотношений между внутренним и внешним. Визуальная оболочка может быть разрушена многими способами. Разрыв первого контура отрезает от реального, а разрыв второго не позволяет от него отделиться. Если психическое функционирование характеризуется избытком негативной галлюцинации (например, белый психоз, аутизм), то экран будет слишком мутным, а проекция – недостаточной. Если психическое функционирование характеризуется избытком позитивной галлюцинации, то экран будет слишком прозрачным, а проекция – избыточной (истерия, галлюцинаторные и бредовые психозы). На этой основе возможно появление более тонких и более сложных комбинаций (1994).
В случае с С. Б. остро проявилась необходимость в визуальной оболочке Я и трагические последствия полного отсутствия таковой. Из-за отсутствия негативного галлюцинаторного экрана и сдерживающего контура у него не было никакой возможности выстроить границу и связь между внутренним и внешним. Мир представал перед его взором, но не мог, как это бывает при «горячих» психотических состояниях со смешением внутреннего и внешнего, порождать галлюцинации. Единственный известный случай, когда был обозначен проективно-интроективный путь влечения по двойному контуру с опорой на экран, произошёл тогда, когда С. Б. впервые посмотрел на луну. Обычно то, что он видел, не ощущалось как реальное. Мы видели, как зеркало, настоящая «визуальная кожа», заменяло ему экран парэкситаций. И понятно, что он предпочитал видеть мир не напрямую, а через отражение в зеркале, поскольку отражающая способность зеркала подобна переворачиванию скопического влечения на себя. Для него зеркало было в реальности настоящим аналогом визуальной оболочки Я.
Видение С. Б. можно уподобить «оператуарному» функционированию. Но как же следует понимать то, что происходит с патологией визуальной оболочки у оператуарного пациента?
«СХЕМА» ОПЕРАТУАРНОГО ВОСПРИЯТИЯ
На уровне содержаний оператуарному восприятию не хватает позитивного «галлюцинаторного элемента», который позволяет:
— пропитывать внешнюю сторону нарциссического либидо, позволяя перцептивному появлению стать также и репрезентативным появлением в остатке от смешения внутреннего и внешнего;
— порождать перцептивную уверенность, галлюцинаторную веру в физиологический продукт наших органов чувств;
— поддерживать минимальную степень галлюцинаторных встреч с первичным объектом в перцептивной деятельности;
— содействовать соединению образности с влечением, что позволило бы связать визуальное бестелесное с собственным телом;
— придавать образности элемент ассоциированного аффекта.
Там, где галлюцинаторное обеспечивает победу психического, оператуарное уступает пальму первенства реальному.
Кроме того, схема (Д. Анзьё, 1994) оператуарной визуальной оболочки отличалась следующими особенностями:
— недостаточностью проективного движения (что подтверждается результатами, которые показали такие личности в ходе проективных тестов), «бессознательное получает, но не выдаёт ничего вовне» (П. Марти);
— чрезмерной прозрачностью негативного галлюцинаторного экрана, которая, вероятно, отражает специфический провал негативной галлюцинации матери. Слишком прозрачный экран (неудачная интериоризация материнской способности мечтать) не подталкивает Я к реальности (как это происходит в случае параноидального психоза, описанном Д. Ахмедом, 1994), ведь оператуарность мало проецирует, а, напротив, подводит реальность к Я. Это способствует усилению перцептивного раздражителя.
Оператуарное восприятие отдаёт предпочтение не интроективной, а инкорпоративной тенденции, очень близкой к аутистическому восприятию (недостаточная психизация движения снаружи внутрь). Но, в противоположность оператуарной личности, аутист защищается от вторжения перцептивных раздражителей при помощи постоянно поддерживаемого барьера мутной негативной галлюцинации. Аутист замыкается в своей «пустой цитадели», а оператуарный субъект открывает свою пустоту, чтобы наполнить её реальностью.
Двойное переворачивание влечений у оператуарного субъекта анемично и недостаточно подвергается психизации. В случае с С. Б. мы видели, что переворачивание влечений в направлении «пассивное-активное» не помогло обеспечить достаточное инвестирование в овладение. Между тем у любого оператуарного субъекта, как и у С. Б., можно заметить, что из-за недостатка проективно-интроективного движения влечений, такого как «психическое дыхание», влечение не связывает между собой внутреннее и наружное. То, что возвращается извне после проекции (обращение на самого себя), не заслуживает названия скопического влечения, а остаётся в состоянии плохо либидинизированного раздражителя.
Мы можем вслед за Д. Мельцером рассуждать об адгезивном и миметическом стиле отношения к миру, которое отмечено исключительно поверхностными качествами объектов. Таким образом, сдерживающая функция визуальной оболочки сведена к минимуму, она существует только в адгезивной и миметической идентификации, а её функция трансформации влечений недостаточна.
Изложенные выше соображения вполне относятся и к С. Б., у которого преобладание тактильности и сложности с построением третьего измерения визуального пространства подобны адгезивной патологии. Только потрогав предмет, он мог объяснить словами то, что он видел. В визуальной сфере его проективная деятельность была очень бедна.
Но С. Б., в отличие от оператуарных субъектов, страдал от своего оператуарного видения, так как ему, кроме всего прочего, было знакомо живое, здоровое отношение к реальности через тактильные и кинестетические представления, и потому видимые картинки казались С. Б. смутно опасными при всей их оптической очевидности.
Его кончину спустя два с половиной года после хирургического вмешательства можно расценивать как явление соматизации, которое присуще «оператуарной» патологии, развившейся у него из-за обретения зрения. После его смерти «хирурги подумали, что операция по пересадке роговицы, вернувшая ему зрение, была ошибочным решением».
Так значит, С. Б. умер из-за последствий недостаточной психизации реальности в его теле?
Чистая оператуарность прилагается к реальности, прилипает к ней и наполняется ею, не понимая, что она вбирает в себя чужеродное тело. Похоже, что С. Б. ощутил это движение вторжения, и оно показалось ему опасным. Вероятно, именно таким образом его эссенциальная депрессия» (П. Марти) приобрела оттенок «аутистической замкнутости» (А. Эренцвейг).
ВИДЕНИЕ И СОМА
Будучи психоаналитиком, в ходе работы я не встречался со случаями соматоза, свидетельствующими об оператуарной патологии, однако могу утверждать, что именно элементы истеризации во взаимоотношениях реальности и тела дают возможность понять обратимость соматизаций в истерический симптомокомплекс. С. Б. был абсолютно лишён этой способности к истеризации в отношении визуальной сферы. Понять причины такого положения дел несложно. В сущности, истерические оберегающие механизмы в визуальной сфере работают при трёх условиях.
- Нужно, чтобы у младенца сформировалась общая с его матерью «визуальная кожа» (1993 и 1994), составляющая основу совместных визуальных и тактильных ощущений, а также единосущности собственного тела с видимым объектом. При этом видение никогда не будет полностью внетелесным, оторванным от плоти. Очевидно, что С. Б. не имел визуальной кожи, однако мы видели, что завораживавшие его зеркала и оконные стёкла выполняли роль аналога таковой. Из-за отсутствия визуальной кожи Я-кожа слепого С. Б., которая, как можно предположить, была довольно крепкой, не смогла «прийти ему на помощь» в визуальной сфере.
- Кроме того, необходимо, чтобы ребёнок смог включиться в отображение и идентификацию своего телесного Я и мира – этот процесс лежит в основе нашего антропоморфического видения реальности, связывающего телесное Я с внетелесным визуальным миром, и переплетает объектные и нарциссические инвестиции.
Так, в ходе анализа одна пациентка (истеричка с патологией границ Я) могла, опираясь на сновидение, фантазировать по поводу хронического цистита, который то проходил, то снова заявлял о себе. Вытекание мочи уподоблялось судьбе жидкости вне её тела. Когда она находилась в стадии ремиссии, моча становилась эквивалентом потока прохладной воды, она омывала в ней ноги; в этом ручье также плавали золотые монетки – символ аналитика и её отца. Однако, как только симптомы цистита возникали вновь, тот же самый ручей становился мутным, обжигал, превращался в кровосмесительное материнское озеро, в нём она пребывала в растерянности, теряя свои телесные границы и границы своих мыслей. По прошествии первого года в анализе пациентка почувствовала, что цистит в очередной раз возвращается, и она «контролировала» его (да-да!), опуская ноги в прохладную воду, а потом ложилась и отпускала свои мысли в свободный полёт. Таким образом она воздействовала на мысли из своего сна и создавала регредиентное движение, напоминавшее об аналитическом holding. Кризис «отступал», цистит больше не напоминал о себе!
Этот метафорически антропоморфический характер перцептивных и репрезентативных образов, слабо выраженный при оператуарной патологии и у С. Б., обеспечил бы обратимые истерические соматизации и, возможно, защитил бы от необратимых соматозов (прогрессивной дезорганизации) за счёт создания такого средства как формальная регрессия.
- Изначально это галлюцинаторная реализация желания видеть как первый шаг фигуративности, которая в дальнейшем даст возможность визуальным восприятиям взрослого человека обрести галлюцинаторный компонент. Между тем галлюцинаторный компонент связывает восприятие и репрезентацию с собственным телом, поскольку он постоянно пытается привести к обретению на перцептивном полюсе – как актуального телесного ощущения– присутствия «самой вещи», которая сошла на нет в её репрезентации. Обусловленность галлюцинаторного компонента влечением пытается привести к обретению объекта по модели рекорпорации, как «удовольствие органа». Здесь уже речь идёт не о том, чтобы связать форму тела с визуальными формами, а как раз о том, чтобы растворить внетелесное видение в соматическом удовольствии органа. Из-за отсутствия визуального галлюцинаторного компонента С. Б. был лишён этой возможности. У него визуальное представление не окрашено влечением.
Мне кажется, именно эти три параметра в первую очередь позволяют понять, как происходит связывание у любого человека: поверхность тела (место взаимодействия внутреннего и внешнего), форма и движение тела (формальное означающее, согласно Д. Анзьё), то, что внутри тела (обусловленное влечением удовольствие органа) и визуальное восприятие.
Изначально эти три параметра формируются благодаря подвижности границ детского, ещё не зрелого Я. Каким образом С. Б. в возрасте 52 лет мог возместить несостоятельность этой конструкции? Может быть, только приступ бреда, сопровождающийся галлюцинациями, мог спасти его одновременно и от страданий в связи с тем, что он прозрел, и от гипотетического психосоматического заболевания, за счёт восстановления визуальной нео-реальности, изоморфной для его Я! Например, можно представить себе, что, подобно знаменитой пациентке психиатра Тауска, он мог бы бредить и считать, что в ходе операции хирург «перевернул его глаза задом наперёд»!
Вдобавок обращает на себя внимание тот факт, что пациенты с психозами, которые в своём бреду не переставая проецируют, галлюцинируют на основе своих восприятий и живут в нео-реальности, изоморфной для их Я, при этом в некоторой степени «защищены» от соматического заболевания. С. Б. могло бы спасти галлюцинаторное, бредовое разрешение его состояния, но при его невротической структуре это оказалось невозможным.
РЕГРЕДИЕНТНЫЙ ПУТЬ, ХРАНИТЕЛЬ ЖИЗНИ, ЗАДЕЙСТВОВАННЫЙ В ВИЗУАЛЬНОМ ВОСПРИЯТИИ
Вся совокупность этого процесса истеризации, подразумевающая три параметра (визуальная кожа, антропоморфизм, галлюцинаторный компонент), которые включены в психическую работу визуальной оболочки, вероятно, оказывает тот же самый эффект психизирующей трансформации в ходе дневной перцептивной деятельности, что и сновидение – в ночной жизни. Таким образом, регредиентный нарциссизм, использующий галлюцинаторный путь, связывается с прогредиентным нарциссизмом, которого требует перцепция.
Вместе с тем, по мнению Мишеля Фэна и учёных Парижской психосоматической школы, происходит движение туда-обратно между прогредиентным путём (проект, объективирующее напряжение, активность в состоянии бодрствования) и регредиентным путём (уменьшение напряжений, сновидение, галлюцинаторный полюс), которое сохраняет жизнь. Моя концепция даёт возможность понять, каким образом эти два полюса (между прочим, конфликтующие между собой), оказываются вовсе не взаимоисключающими в перцептивной деятельности.
Именно на примере этой модели можно понять анализ того удовольствия, которое получал С. Б., созерцая луну. В самом деле, мы помним, что, впервые увидев растущую луну через оконное стекло, он подумал о куске вкусного пирога, который можно поглотить: галлюцинаторный компонент орального желания, фантазия о доброй материнской груди-кормилице, вписанная в визуальную кожу, связывали его рот и глаза с грудью-вселенной, сопрягая такой визуальный раздражитель как луна и её полисемичное название.
Именно такой тип метаболизации, соединяющий в себе прогредиентный и регредиентный пути, обычно был невозможен для С. Б.; его взгляд постоянно вбирал в себя реальность, такую же непредставимую, как «чёрная дыра»», в своей оптической очевидности, и такую же конкретную и неподдающуюся усвоению, как коробка с гвоздями! Может быть, от этого он и умер.
КОНЧИНА С. Б.: ТРИУМФ ДЕЗОБЪЕКТИВИРУЮЩЕЙ ФУНКЦИИ
Причина смерти С. Б. нам неизвестна. Но Грегори указывает на несомненную связь между депрессией и смертью С. Б., и все, кто комментирует его случай, также говорят об этой связи. А. Эренцвейг (1974) полагает, что С. Б. «умер от глубокой депрессии»; ещё более резко высказывается невролог О. Сакс (1996), который беседовал с Грегори о С. Б.: по его мнению, речь идёт о «летальной депрессии». Говоря об этой взаимосвязи, можно сформулировать две гипотезы:
— описанная П. Марти прогрессирующая дезорганизация привела к возникновению у С. Б. смертельного психосоматического заболевания;
— завеса тайны, окутывающая причину ухода С. Б. из жизни, может скрывать за собой суицид. Гипотезу о том, что постепенное впадение С. Б. в меланхолию, при которой преследовавшее его идеальное Я довело его до самоубийства, нельзя сбрасывать со счетов. «Он был немного похож на человека, который мечтал попасть в рай, а когда оказался там, обнаружил, что рай вовсе не похож на то, что он себе представлял»; «он сам впервые в жизни почувствовал себя инвалидом»; «он стал мрачным (gloomy) и пассивным и умер спустя два с половиной года после операции (Р. Л. Грегори).
Нам неизвестно, смог ли С. Б. организовать активно суицидальное депрессивное состояние, или же он до конца переживал прогрессивную дезорганизацию. Если предположить, что речь шла о прогрессивной дезорганизации, то, значит, смерть С. Б. через два года после хирургического вмешательства последовала за «эссенциальной депрессией» и, возможно, была обусловлена процессом соматизации. Эссенциальная депрессия у С. Б., то есть депрессия «без какого бы то ни было позитивного экономического противовеса» (П. Марти), в любом случае, имела некий нюанс: преследованием со стороны разочарованного идеала, связанного со способностью видеть; меланхолическими сожалениями по поводу собственной слепоты и аутистической замкнутостью, связанной с тактильным / визуальным разладом.
У С. Б. наблюдались:
— появление проблематики идеального Я, которая нарушила его нарциссический гомеостаз;
— потеря объектного мира, случившаяся в его бытность слепым, которую он не мог оплакивать;
— травматическое бомбардирование не связываемыми перцептивными возбуждениями;
— несостоятельность функционирования на предсознательном уровне,
которые являются также комплексными факторами прогрессивной дезорганизации, согласно П. Марти (1996, 1980).
В любом случае, если прогрессивная дезорганизация у С. Б. – это всего лишь предположение, то он, конечно, находился под властью дезобъективирующего визуального восприятия, которое мучило его. И хотя С. Б. выиграл сражение с бесформенностью и в конечном счёте научился правильно идентифицировать визуальные формы, он так и не сумел построить мир либидинальных визуальных объектов. Перед С. Б. разверзлась психическая пропасть, которой стало для него полное восприятие. Эта пустота не служила экраном для раздражителей, как это бывает в случаях белого психоза, и интенсивность восприятия была абсолютной. Это массовое вторжение раздражителей развязывало репрезентации и восприятия, расплетало объектные и нарциссические инвестиции и приводило к дезобъектированию мира, сформировавшегося у него в его бытность незрячим. С обретением способности видеть, в глазах С. Б. появилась деструктивность без возможности найти либидинальную связь. Деструктивность стала целым миром. Его перцептивная система вернулась в хаос «Оно», разъединила влечения жизни и смерти, открыв бессознательное с соматической стороны. Что видел С. Б., если говорить о влечениях? Если человек, страдающий психозом с параноидальным бредом ослеплён своими влечениями жизни, то перед глазами С. Б. стояло влечение к смерти.
Каковы бы ни были подлинные обстоятельства его кончины, и даже если мне возразят, что, возможно, С. Б. «умер прекрасной смертью», мне, по зрелом размышлении, кажется, что смерть была у него в глазах.
ГИ ЛАВАЛЛЕ
106, улица де Севр
75015 Париж
АННОТАЦИЯ – Каким образом психическая и соматическая жизнь может сопрягаться со способностью видеть? Случай С. Б., слепого от рождения и прозревшего в возрасте 52 лет, который погрузился в «летальную депрессию», даёт повод задуматься над этим вопросом и попытаться найти на него ответ. Автор излагает различные точки зрения на необычные клинические нарушения, наблюдавшиеся у С. Б., которые представляют собой различные проявления «дезобъективирующей функции». Рассматривая те средства, которые С. Б. находил самостоятельно, чтобы справиться со своим отчаянием, мы осознаём необходимость «визуальной оболочки Я», хранительницы жизни.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА – Прозревший слепой, оператуарное видение, эссенциальная депрессия, прогрессивная дезорганизация, смерть. Преследование со стороны идеального Я, меланхолия, тактильный / визуальный разлад. Разъединение нарциссически-объектного элемента и влечений, дезобъективирующая функция. Визуальная оболочка Я, галлюцинаторный компонент, восприятие и регредиентный путь, инвестирование в овладение, представления-экран, защитная истеризация.